В самом начале «Станции Одиннадцать» – постапокалиптического романа, который спорит, кажется, со всеми тропами постапокалиптических романов – рассказчик приводит неполный список того, что прекратило свое существование в мире, где цивилизацию стер с лица земли смертельный вирус гриппа.
<…> Нет больше экранов, что светятся в полутьме, когда люди вытягивают руки с телефонами над головами толпы, чтобы сфотографировать сцену. Нет и самих сцен, освещенных яркими галогенными лампами. Нет электронной музыки, нет панка и электрогитар.
Нет лекарств. Нет уверенности, что можно не умереть от царапины на руке или пореза на пальце, если соскочит нож, пока готовишь обед.
Нет полетов. Не выглянуть из иллюминатора на мерцающие внизу города, представляя, как среди этих огней живут люди. Нет самолетов, нет просьб поднять и зафиксировать откидные столики… хотя самолеты все же иногда встречались то тут, то там. Они покоились в ангарах и на взлетных полосах, собирали снег на крыльях. В холодные месяцы самолеты становились идеальными хранилищами для пищи. <…>
Это звучит как песня или как молитва, которую положено произносить нараспев. Так и происходит: в телеадаптации романа Мандел от HBO, шоураннером которой стал Патрик Сомервиль, панегирик погибнувшей цивилизации становится частью репертуара шекспировской труппы «Странствующая симфония». Это лишь относительно небольшое из тех изменений, которым подверглась «Станция Одиннадцать» во время переноса на экран – переноса, который происходил уже посреди эпидемии ковида.
Сама Эмили Сент-Джон Мандел не любит, когда ей говорят, что она напророчила пандемию. «Когда исследуешь тему эпидемий, понимаешь, что после одной эпидемии придет другая. просто так работает история. После ковида будет другая болезнь, а за ней еще одна. Это как если бы какой-нибудь писатель в шестидесятые написал роман о вымышленной войне, и потом говорили бы, что он предсказал Вьетнам. Нет, просто всегда будет другая война».
Однако причина, по которой «Станция Одиннадцать» стало одной из самых популярных книг в пандемию, не только в ее ненарочной актуальности.
«Станция Одиннадцать» отличается от любого другого постапокалиптического текста. Да, здесь тоже есть полный опасностей мир после катастрофы, где без заряженного пистолета лучше не путешествовать, но если прочий постапок только этим опасностям и посвящен, то «Станция…» задает интересный вопрос: зачем в мире после катастрофы искусство?
И роман, и мини-сериал не дают ответ в лоб. Он приходит по-разному. В третьей серии Кирстен, героиня Маккензи Дэвис, – участница шекспировской труппы, заставшая пандемию восьмилетней актрисой театральной массовки, – играет роль Гамлета в постановке для небольшой коммуны в окрестностях постапокалиптического Чикаго. Ее реплики в диалоге с Полонием перебиваются воспоминаниями Кирстен: как через неделю после начала пандемии она узнала из сообщения из морга, что ее родители погибли, но она не может даже прийти и проститься с ними. Реальная боль находит выход через строки Шекспира, написанные четыреста лет назад. И они поражают слушателей. Заражают их. В конечном итоге, выступления «Симфонии» позволяют людям чувствовать, что они – не одни, и что их боль можно с кем-то разделить.
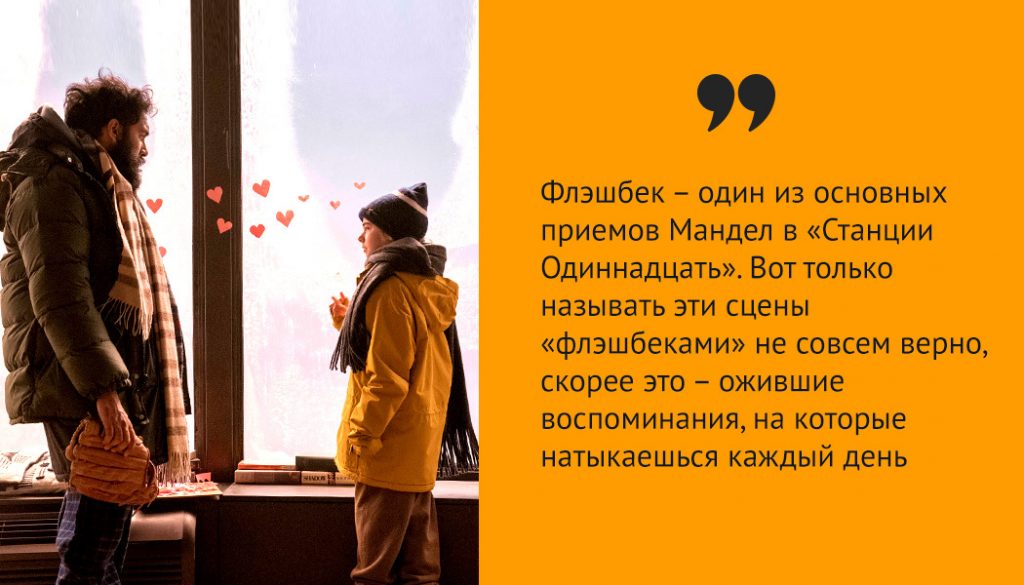
Флэшбек – один из основных приемов Мандел в «Станции Одиннадцать». Вот только называть эти сцены «флэшбеками» не совсем верно, скорее это – ожившие воспоминания, на которые натыкаешься каждый день. Прошлое, плотно вмонтированное в настоящее и объединяющее героев. Одной из фигур прошлого и в романе, и в сериале становится Артур Линдер – популярный актер кино из сцены, с годами подрастерявший в блеске, но все равно харизматичный. Его смерть от сердечного приступа в начале «Станции Одиннадцать» дает старт повествованию, но еще и символически предваряет пандемию. Король Лир, которого играет Линдер, умирает и на сцене, и в реальности, таким образом реальности и вымысел сцепляются травмой, которую только истина вымысла вылечить и может. «Я помню ущерб», – это цитата из комикса «Станция Одиннадцать», единственный экземпляр которого писала Миранда Кэрролл, первая жена Линдера. По сюжету комикса, астронавт Доктор Одиннадцать живет на брошенной космической станции и хочет вернуться к научным экспериментам, но у него ничего не выходит. «Эта штука разрушила мою жизнь», – говорит Линдер в исполнении Гаэля Гарсии Берналя, но, в сущности, Линдер сам устроил свою жизнь таким образом, что для него и каждой из его трех жен она превратилась в круговорот боли. В погоне за блеском шоу-бизнеса Линдер создал много боли – и она отзовется много лет спустя, когда странствующая шекспировская труппа столкнется с сектой Пророка, которая – трудно тут не увидеть параллели с сегодняшней Россией – с большой враждебностью отнесется к самой идее свободного искусства. Для многих это столкновение станет фатальным.
Здесь важно вспомнить, что Эмили Мандел и сама – актриса. Драматическое искусство для нее на первом месте, и роль писателя этого не отменяет. Герои должны пройти кругом танца и закончить его так, чтобы все ружья выстрелили в определенном порядке, и здесь никакого сбоя нет, драматический салют гремит строго по расписанию, чтобы потом порох осел, и сквозь легкий дымок читатель увидел звезды – миллионы лет пройдут, а они никуда не денутся. Сериал эти взаимосвязи только укрепил. Дживан Чодари в романе – журналист-фрилансер, последний, кто взял интервью у Линдера, и первый человек, кто понял, что актер умер. Именно с Дживаном сразу после разрыва с Линдером говорит Миранда. Но в сериале именно Дживан становится для будущей актрисы Кирстен новой семьей, помогает пережить кошмар первые месяцы катастрофы. «Я жалею, что сама так не написала», – говорила Мандел в интервью «Эсквайру».
Желание сплотиться – одна из тем романа. То, как люди сохраняют хрупкое равновесие в сообществе, что их держит друг с другом. Обычно постапокалипсис рассказывает о разобщении, Мандел в этом выделяется. Но сплотиться можно по разному поводу. Можно творить искусство, можно – строить деструктивный культ и плодить смуту. А можно – устроить музей цивилизации. Так называется импровизированная выставка когда-то важных, но уже ненужных вещей, которую создают обитатели аэропорта Торонто (в сериале – Чикаго). Кредитки, ключи, мобильники, почтовые марки – все это скапливается в музее. Зачем? Становится понятно позже, когда выросшие через десятки лет после катастрофы дети гуляют по фюзеляжам самолета и удивляются, что когда-то эти штуки могли летать. Да, могли, а еще было вот это и вот это, – объясняют им родители, и таким образом повседневная жизнь глобального мира, ставшая волшебной сказкой, объединяет поколения.
Хрупкость цивилизации – это еще одна тема «Станции», вот только воспринимаемая необязательно со знаком «минус». Ведь цивилизация – это и соцсети с их непрозрачной этикой и странностями общения, и экологическая катастрофа, и корпорации с их неограниченным стремлением к расширению экономического пространства, которое в конечном счете стало косвенной причиной катастрофы. Сам Артур Линдер – цементирующая фигура текста – с его стремлением к постоянному вниманию публики, которое загоняет в порочный круг лжи, символизирует тупиковость какого-либо прогресса, оторванного от человеческого измерения, и симптоматично, что безучастность Линдера в итоге способствует появлению чудовища, а созерцать эту трансформацию в романе предстоит другу детства – человеку, который достиг успеха, но не потерял человечность. В этом грустном садо комиксу «Станция Одиннадцать» тоже уготована двойственная роль: символа того, что ядро цивилизации – ее культура – никогда не будет утрачено, покуда мы захотим его сохранить.
В одной из глав романа есть эпизод, когда Кирстен обыскивает заброшенный дом в поисках припасов. Характерная для постапокалипсиса сцена, но Мандел смещает фокус. В какой-то момент из закрытого серванта вдруг падает блюдце и разбивается вдребезги. Позже Кирстен много думает о том, был ли в том доме призрак или нет. В конечном итоге оказывается, что для нее все дома в Америке так или иначе одержимы призраками – просто не всех можно увидеть.









