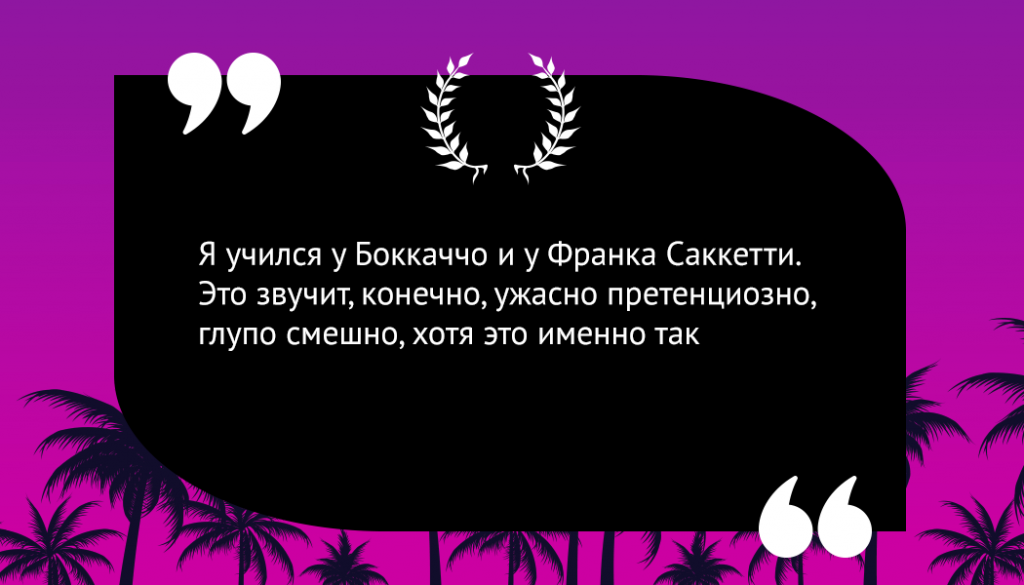В начале сентября мы записали подкаст с Денисом Драгунским — советским и российским писателем и журналистом. Обсудили жизненный путь автора, вспомнили советскую эпоху и множество домыслов о том времени, поговорили о книгах, которые вдохновляли прозаика, а также уделили пристальное внимание его любимому жанру — коротким рассказам.
«Круче, чем в Голливуде» — подкаст об удивительных историях человеческих судеб, которые способны дать фору многомиллионным экранизациям. Ни капли вымысла: только реальные случаи из жизни, рассказанные от первого лица.
С полным выпуском можно ознакомиться на нашем сайте, либо на любой из других платформ: Apple Music | Spotify | VK
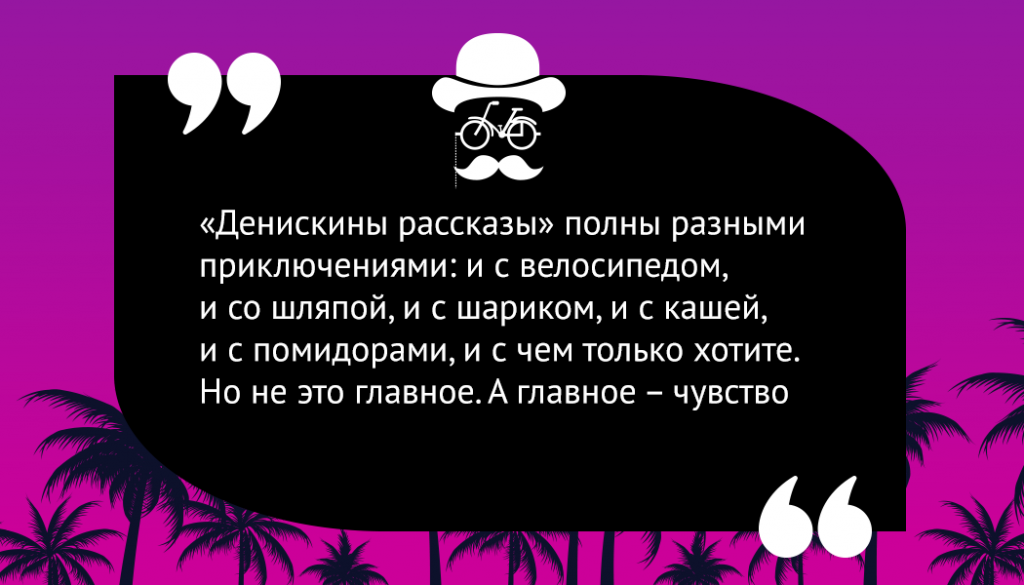
Константин Орищенко: Вас часто спрашивают о «Денискиных рассказах». Тех самых, горячо любимых читателями историях, которые даже сейчас – спустя полвека – продолжают оставаться классикой советской литературы. В сети очень много статей на эту тему, фрагментов из интервью. Но все же интересен ваш взгляд: почему именно эти истории так понравились советским читателям? Попали в нерв поколения? Подкупили своей искренностью? Или, может быть, все дело в том, что читателям не хватало легкости повествования, простых и душевных историй?
Денис Драгунский: Вы знаете, ваши последние вопросы, конечно, уже содержат в некотором смысле ответ. Конечно, искренность. Эти рассказы любят читатели и маленькие, и взрослые – их родители и те, которые потом перечитывают их уже своим детям будучи сами когда-то маленькими читателями «Рассказов». Все они любят их за то, что там очень хорошо прочувствована и описана душа ребенка. Там нет никаких особенных приключений… Нет, конечно, они есть. Конечно, «Денискины рассказы» полны разными приключениями и с велосипедом, и со шляпой, и с шариком, и с кашей, и с помидорами, и с чем только хотите. Но не это главное. А главное – чувство. И вот, очевидно, эти рассказы стали так популярны прямо с первого издания, с 1961 года, потому что они заполнили этот «вакуум чувства», «вакуум искренности», «вакуум веселого и изящного, мастерски написанного рассказа о веселых ребятах». Моему отцу говорили, что там нет ни металлолома, ни макулатуры, ни пионерской работы, ни каких-то серьезных конфликтов между двоечником и пятерочником, между хулиганом и учителем, между пионером и пионервожатым… и вся вот эта вот советская тематика – в них практически отсутствует, а если и присутствует, то только в фоновом виде по типу «наша пионервожатая сказала», а дальше начинается смешная история про «папа Васи силен в математике». Так что, я думаю, что эти рассказы полюбили и любят до сих пор за легкую искренность.
Константин Орищенко: В этом году вышел сборник «Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей», в котором есть один из ваших рассказов, «Бутылка и бойцовка». Здесь вы решили зайти с довольно любопытной стороны и порассуждать о сдаче стеклотары как о некоем культурном феномене, характерном для советского времени. Почему вы решили отразить именно эту тему?
Денис Драгунский: Во-первых, я люблю подробности жизни, поэтому с огромным интересом читаю книжки из серии «Повседневная жизнь»… знаете, есть такая большая серия, там очень интересные вещи: «Повседневная жизнь в России» или «Повседневная жизнь в Америке в XVIII веке среди велосипедистов»… Это очень интересно. Я люблю читать мемуары, дневники, письма. Вообще, в последние годы это мое любимое чтение. Именно там я ищу всякие драгоценные, милые и мелкие подробности быта. Знаете, у меня был такой интересный случай: я писал роман (он давно написан, издан и уже распродан, называется «Дело принципа» про Австро-Венгрию) и мне надо было узнать ерундовый вопрос: сколько стоила чашечка кофе в среднем австро-венгерском кафе. И я этому вопросу посвятил несколько дней! Я рылся в огромном количестве книг в интернете, в бумажных книгах, понимаете? И все получалось, как будто бы там люди по воздуху ходят. «Мы зашли в кафе, взяли по чашечке кофе, выпили и ушли». Как будто бесплатно. Но, в конце концов, я все-таки нашел эту искомую сумму – восемьдесят крейцеров, крона без десяти копеек.
Вот так и здесь, понимаете, я люблю реальность, а сдача бутылок – это была, конечно, реальность жизни студентов. Студенты были молодые, студенты любили, как сейчас говорят, тусоваться, тогда это просто называлось – собираться. Давайте соберемся, если соберемся, то выпьем, а если выпьем, то, конечно, встает проблема сдачи бутылок. Но в этом рассказе не только про сдачу бутылок, там про то, как добыть бутылку вина в Москве. Ведь сейчас людям трудно поверить, что в Москве, в городе, в котором тогда все-таки жило примерно семь миллионов человек, что в нем было всего два, – в скобках и прописью, – два магазина, которые работали позже восьми часов вечера. Один до десяти, а другой до одиннадцати. И все!
В этом рассказе говорится о том, как я догадался, где достать вино. Нужно было поехать на городской аэровокзал, и там был круглосуточный буфет, и вот в нем-то мы и достали это вино! То есть вот это вот просто жизнь. Тем более, как интересно: стоимость бутылки была соизмерима со стоимостью ее содержимого. Пиво стоило тридцать семь копеек, из них двенадцать копеек стоила бутылка. Значит, если ты раздобыл где-то три бутылки, у тебя уже была бутылка пива с «посудой». А если без «посуды», то две бутылки. Это очень интересная была история. Понимаете, Советский Союз был устроен очень интересно… я ни в коем случае не ностальгирую по нему, я его, строго говоря, не люблю. Но, тем не менее, в нем были очень интересные жизненные подробности, за которыми интересно следить, которые интересно вспоминать и рассказывать.
Константин Орищенко: Сейчас существует множество домыслов по поводу советской эпохи. Кто-то идеализирует ее, ностальгически вспоминая, как было хорошо тогда и как плохо сейчас. Кто-то скептически качает головой и говорит, что в том времени не было ничего интересного. «Денискины рассказы» описывают конец пятидесятых и начало шестидесятых. Каким вы помните детство тогда и что, на ваш взгляд, изменилось сейчас?
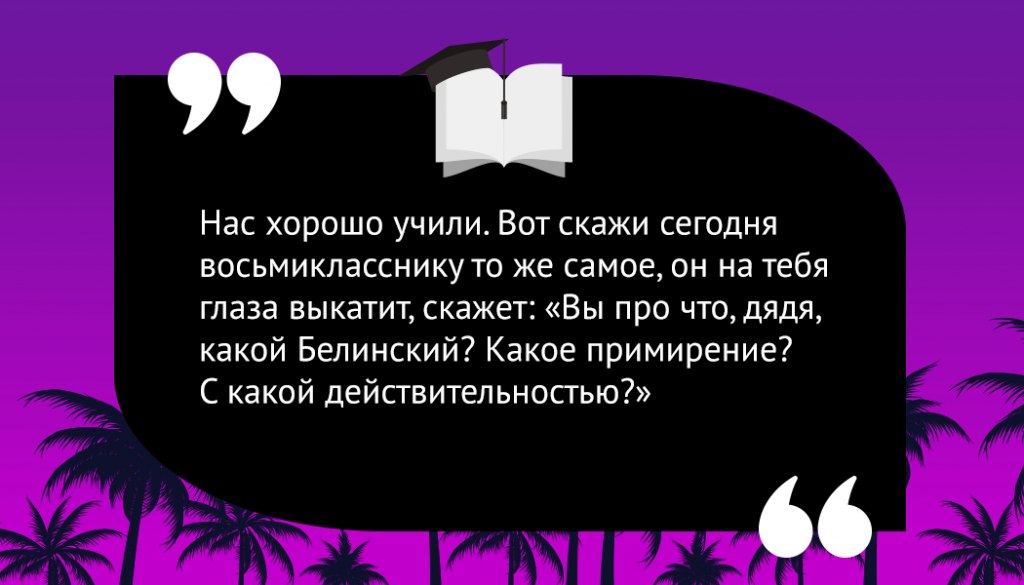
Денис Драгунский: Можно сказать коротко: все изменилось. Кроме возраста, кроме яркого переживания детства. Мое детство было совершенно другое, в школу все ходили в форме, – сейчас тоже иногда ходят в школьной форме, но наша форма была неудобная. Во всяком случае, для мальчиков – какая-то военного типа. Сначала гимнастерки, потом стали носить пиджачки серенькие, тоже в стиле military. Пионерская организация, комсомол, политинформации, сбор макулатуры, сбор металлолома, потом уборка в классе – каждый день дежурные назначались. Потом политинформации, раз в неделю кто-то назначался, нужно было делать обзор газет. Разные портреты Ленина… Ну вся вот эта вот идеологическая чухня. Но не в этом дело. Это, конечно, было, но это можно воспринимать как необходимый фон. Для нас это негатив. Но был и определенный позитив: нас все-таки учили, и люди, которые заканчивали всего десять классов, просто понимали… Вот я недавно перебирал свои старые дневниковые записи и вспоминал: сидим мы на школьном дворе – извините за выражение – и выпиваем после школы, то есть мы были значительно свободнее. Мы были ужасные хулиганы.
У нас была большая переменка, длилась она сорок минут, а маленькие переменки были зато по пять – крохотные. Мы успевали только из класса в класс перейти. Рядом со школой был магазин, бывало на перемене брали бутылочку сухого, шли на школьный двор (в девятом-десятом классе) и выпивали по сто пятьдесят грамм винца. И ничего, живы. Ну, курили, конечно, как черти. В школе курили, в туалетах. Войдешь в коридор – от этого дымищи не было сил. Так вот, сидим мы, закусываем каким-то куском хлеба, один говорит: «Ой, хлеб какой черствый!», а другой говорит: «Да ладно, ничего, черствый так черствый». И кто-то другой говорит: «Ишь ты, ну прямо великий критик Белинский в эпоху примирения с действительностью!». И все ржут. И все понимают, о чем идет речь. О том, что у Белинского до того, как он стал крутым, был период, назывался «примирение с действительностью», где он вслед за Гегелем говорил, что все действительное разумно, и поэтому нужно принимать и царский режим, и крепостное право, и что угодно. Что это, мол, все надо и все хорошо.
Понимаете, нас хорошо учили. Вот скажи сегодня восьмикласснику то же самое, он на тебя глаза выкатит, скажет: «Вы про что, дядя, какой Белинский? Какое примирение? С какой действительностью?». Но самое главное, в нашем детстве, несмотря на эту тоталитарную промывку мозгов, мы были какие-то очень свободные ребята. Никто за нами не следил. Вот придешь из школы, пообедаешь, сделаешь уроки где-то к четырем часам, и что мама говорит? Правильно, иди во двор гулять! И ты идешь во двор до восьми вечера, и никому нет никакого дела, где ты, – в этом дворе, в другом дворе, или ты зайцем катаешься на троллейбусе по всей Москве, или идешь меняться марками и монетами, или играешь в ножечки, или на птичий рынок едешь на другой конец Москвы. Ну черт знает что, понимаете? И никому нет никакого дела. Я ходил совсем недолго на спортивную секцию, которая находилась на ВДНХ, я-то жил на Маяковской, а оттуда еще на автобусе и идти минут двадцать через какие-то бараки и дворы. Никто меня не возил на спорт и не забирал со спорта. Вот этого вот родительского нависания над ребенком, как сейчас, не было. И это было, на мой взгляд, самое главное. Самое хорошее, что мне дала школа, это самостоятельность.
Константин Орищенко: Как думаете, а что поменялось в сравнении с тем временем в ментальном состоянии подростков?
Денис Драгунский: Они стали очень несамостоятельны. Человек, которому звонит мама и говорит: «Ты уже пришел? Ты уже поел? Ну-ка пришли мне на WhatsApp фотографию котлеты». Это большая несамостоятельность, это инфантилизм. Потом, мы были дети из бедных семей (называю все своими именами), дети из богатых семей, но мы все-таки все вели себя довольно скромно. Это уже в десятом классе, в институте уже шли такие дела, там, джинсы у кого какие, курточка какая. А вот в школьное время все одевались одинаково, одевались очень скромно, никто не клянчил у родителей никогда. Никаких гаджетов вообще не было, как вы понимаете. Часы у мальчиков и девочек появлялись, но не у всех – и к десятому классу. Вот как-то вот так.
Константин Орищенко: В советское время многие пренебрежительно отзывались об авторах, которые писали детские книги, считая их творчество литературой низшего сорта. Вы даже говорили об этом в одном из интервью. Но, в то же время, есть детские произведения, которые вполне могут конкурировать с самыми выдающимися художественными романами. За примерами далеко ходить не нужно: «Незнайка» Носова – книга, способная встать в один ряд с такими известными антиутопиями, как «1984» Оруэлла и «О дивный новый мир» Хаксли, пусть и описанная глазами ребенка, но предсказавшая множество сценариев «современного будущего» задолго до того, как это стало частью реальности. Или, например, Кир Булычев с его «Приключениями Алисы». Знаю, что вы не любите фантастику, но все же. По меркам того времени книга совсем не уступала многим произведениям классиков научной фантастики. Как думаете, откуда возник этот стереотип о детской литературе и насколько он вообще правдив?
Денис Драгунский: Я думаю, что вообще это мнение не совсем верно. Детская литература всегда была в большом почете у советской власти. Многие, скажем, писатели (я уж не буду называть имен), замечательные писатели, даже делали ставку на детскую литературу для того, чтобы прославиться и разбогатеть, потому что детская литература – важнейшая часть воспитательной программы советской власти и коммунистической партии, поэтому на нее, во всяком случае, в тридцатые и сороковые годы, не жалели денег. Тогда появлялись детские книги толстые, действительно, как романы, про шестиклассников, про восьмиклассников, про детей на войне, про детей в гражданскую войну, про детей в эпоху индустриализации и коллективизации, про пионеров-героев. Просто про каких-то ребят, которые ходят в школу – тот же Носов, там, «Витя Малеев в школе и дома», «Веселая семейка». «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «За власть советов» и так далее. Гайдар, опять же. Это был большой кусок литературы, поэтому детская литература очень высоко стояла при советской власти. Даже не в шестидесятые годы, когда работал мой отец, а именно раньше, начиная с тридцатых годов. Была такая фраза, не помню кем сказанная, «для детей нужно писать точно так же, как и для взрослых, только гораздо лучше». Была вот такая идея. Но среди самих писателей как бы в противовес тому, что я сейчас рассказал, существовало вот такое вот разделение – детская литература и литература для взрослых.
Помню, как мой отец говорил про свои две повести, что это взрослые вещи, это как бы по-серьезному, что вот так писатель переходит на следующую ступень. Человек бывает ребенком, подростком и взрослым, так же и литература бывает детской, юношеской и взрослой. А что касается фантастики, я ее не очень люблю, но Булычев, на мой взгляд, выдающийся писатель. У него не только «Алиса Селезнева», но и другие фантастические вещи. У него есть потрясающий рассказ про потерянные хлебные карточки, где происходит путешествие во времени, где герой случайно звонит по телефону и попадает на войну, разговаривает с какой-то девочкой, а потом это все очень интересно замыкается. Очень мастерски написанная, такая, новелла. А «Незнайка» – это вообще! Ну что вы говорите «Незнайка»! У нас это главная книга советских и постсоветских людей… Кто-то сказал очень хорошо, что у нас капитализм строился не по Фридриху Хайеку, а по Носову, по «Незнайке».
Константин Орищенко: Да, это факт. Абсолютно согласен. Гениальная книга, которая предсказала будущее.
Денис Драгунский: Гениальная! Ну вообще «Незнайка» даже не та, которая предсказала будущее, а просто «Приключения Незнайки», «Незнайка в Солнечном городе»… Я читал какую-то статью, там огромное количество цитат из русской литературы. Разговор Синеглазки с подругой, оказывается, это спародированный разговор двух дам из «Мертвых душ». Открываешь и понимаешь, что это очень многомерная вещь.
Константин Орищенко: То есть получается, Носов использовал прием, который стал использовать Тарантино, задолго до того, как это стало мейнстримом?
Денис Драгунский: Наверное!
Константин Орищенко: Каково это понимать, что вы – прототип персонажа одной из самых известных книг того времени? А в ней, пусть и в ироничном ключе, показана вся ваша жизнь. Не было ли ощущения, что таким образом миллионы читателей, того не желая, нарушают ваше личное пространство? Или же вы воспринимали это абсолютно нормально?
Денис Драгунский: Когда я был моложе, не было никакого «личного пространства». Какое, к черту, личное пространство, когда сначала мы жили впятером в одной комнате коммунальной квартиры? Бабушка (это была ее комната), папа, мама, я и няня. А потом улучшили жилищные условия: стали жить снова в коммунальной квартире, но уже в одной комнате втроем. У моего папы, когда он был уже знаменитым писателем, никогда не было своего кабинета. То есть у моего отца не было личного пространства, какое могло быть личное пространство у меня? Вообще у меня была своя комнатка, но у меня всегда были распахнуты двери.
Мне часто задают подобные вопросы. И тут две вещи. Во-первых, никто не обижался. А во-вторых, он же, конечно, рассказывал не обо мне. Конечно, это все художественный вымысел, хотя и в «Денискиных рассказах» огромное количество реальных вещей. Я бы сказал так: и «Денискины рассказы», и мои рассказы тоже – фантастическое лего, созданное из абсолютно реальных кусочков. Учительница была, Мишка был, Костик был, Аленка была, гости все по фамилиям были, двор был. Из этих кусочков складывалось лего «Денискиных рассказов», и во всех них, кроме одного, нет никаких реальных событий. С другой стороны, есть люди, которые думают, что стать детским писателем очень легко, просто нужно описывать своего ребенка. Нет, ничего подобного. Так же, как и стать автором полицейских саг, – тоже очень трудно. Для этого недостаточно быть лучшим другом начальника отделения, нужна фантазия, нужно художественное воображение – как же иначе-то.
Константин Орищенко: Есть мнение, что советская литература значительно уступает прозе Российской империи. Аргументы примерно следующие: если на заре становления СССР оставались авторы и продолжали традицию классиков, те же Шолохов, Булгаков, Пастернак, Есенин, то вся советская литература свелась либо к произведениям о войне – Симонов, Фадеев, либо к легкой социальной прозе, которая показывала только светлые стороны жизни Советского Союза. Согласны с этим утверждением?
Денис Драгунский: И да, и нет. С одной стороны, советская литература по сравнению с русской классической сильно проигрывает, потому что у нас таких авторов, таких глыб, как великая пятерка: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой и Чехов, к сожалению, не было. Но это, может быть, не связано с советской властью как таковой, это связано с циклами развития русской литературы. У нас ведь и в XVIII веке ничего особенно хорошего-то и не было. А до XVIII века была вообще древнерусская литература – со своими взлетами и падениями, со своими великими произведениями и рядовыми произведениями, но это была совершенно другая литература, которая никакого отношения к литературе иных столетий не имеет. С другой стороны, не все так просто, как вы сказали. На самом деле, советская литература, литература соцреализма, по крайней мере, не наследовала русскому роману. Кстати, об этом напрямую говорил Горький. Он советовал молодым писателям: изучайте великих социалистических романистов Запада – Бальзака и Золя, Стендаля и Флобера, Диккенса, а русская литература с ее невротичностью, с ее достоевщиной, с ее срыванием масок, с ее антигосударственным настроем – это все не то, что нужно.
Ну, это вообще история литературы, это очень сложная материя, в один раз не обсудишь. Но я должен сказать, что вы забили две очень важных линии в советской литературе – деревенская проза, люди большого таланта – Белов, Распутин, Астафьев, особняком стоящий Шукшин. На мой взгляд, просто великий писатель. Кроме того, была так называемая городская проза во главе с Трифоновым. И тут не назовешь все это веселенькими социальными вещами. Нет, это вещи очень тяжелые и серьезные. Если что и унаследовала советская литература, особенно, послевоенная, то это надрывную серьезность – желание, чтобы в одном флаконе были и проповедь, и исповедь, и лирика, и все такое. В общем, писатель хотел быть философом и проповедником, поэтому некоторые книжки невозможно читать, хотя написаны они талантливыми писателями. Очень умный, уж больно умный, напиши про чувства людей, про их отношения, а не пиши про то, как мир устроен. Мы в других учебниках будем узнавать, как он устроен.
Константин Орищенко: Как думаете, чего не хватало советской литературе?
Денис Драгунский: Свободы. Личной свободы. Свободы самовыражения. Какой-нибудь в этой связи игры. Советскому автору были запрещены две темы: социально-политическая и эротическая. И это сильно исказило пути развития литературы, понимаете. Я уж не говорю про ГУЛАГ или про плен и прочий ужас, связанный с войной и послевоенной жизнью, нельзя было писать о голоде, нищете, религии. С одной стороны, в 1943 году была восстановлена церковь в Советском союзе, с другой стороны, было огромное было огромное количество запретов, связанных с описаниями духовных путей человека в религиозном ключе. Альтернативная философия была запрещена, не было никакого фрейдизма или экзистенциализма, – сплошной марксизм. Ну вот так вот. Бедность нельзя было описывать. Секс нельзя было описывать. Вот это все очень обеднило литературу. Не хочу сказать, что прямо совсем кастрировало, но как-то перебило ей ножки, понимаете. Она, так сказать, еле ковыляла в это связи.
Константин Орищенко: Задумывались ли вы, что именно эти ограничения стали неким вызовом для многих писателей, которые, преодолев их, стали всемирно известными? Тот же Бродский…
Денис Драгунский: Ну нет! Бродский преодолел эти вызовы очень просто – путем преодоления паспортного контроля в пулковском аэропорту. Вот знаете, есть такая традиционная форма упрека в русском языке: человеку говорят: «Ишь ты! легких путей ищет!». А почему, собственно, нельзя искать легких путей, ведь колесо было изобретено вместо волокуши, потом был изобретен паровой двигатель, автомобиль, лифт, смеситель, горячая вода в доме? Для того, чтобы облегчать жизнь. Откуда эта странная идея о том, что что-то хорошее, праведное, духовное должно появляться в процессе биения головы об гранитные стенки жизни? Совершенно необязательно! Нет, какое-то количество трудностей преодолевать, безусловно, надо, обязательно. Это тренирует жизненные мышцы… Но вообще, говорить, что писателю в Советском Союзе было хорошо, потому что была цензура… да ничего подобного! Господи, ну что вы говорите, ерунда какая.
Константин Орищенко: Неспроста же говорят, что все гениальное просто.
Денис Драгунский: Не все, но многие вещи. Это потом, задним числом просто, когда ты смотришь на какую-то доказанную теорему, вроде как просто. А ты ее попробуй сам докажи. Вы знаете, я когда-то увлекался шахматами, но не играл. Вот когда была московская шахматная лихорадка, когда были Винник, Петросян, Смыслов, а потом пошли Карпов, Фишер, Каспаров, по телевизору выступали всякие гроссмейстеры и анализировали партии. Шахматная доска на весь экран, и вот говорили: он пошел ферзем сюда, пешкой сюда, а наш Карпов взял и сделал вот такой вот блестящий ход. Я смотрел и, действительно, все становилось понятно после того, как шахматный комментатор мне объяснил, в чем дело, а до этого – мне ничего не понятно. Ну что я хочу сказать, все гениальное просто задним числом, а в процессе создания чего-то гениального, – оно очень трудно.
Константин Орищенко: Слышали, кстати, про такой сериал «Ход королевы»? Там как раз-таки описывается история гениальной шахматистки со всеми ее внутренними переживаниями. Автор погружает читателя – это сериал, снятый по мотивам одноименной книги – в те реалии советской эпохи, во время противостояния Америки и Запада, и показывает все это как слепок того времени.
Денис Драгунский: Нет, вы знаете, я не смотрел этот сериал. Вообще, должен сказать, что я сериалы не смотрю. Ну потому что мне на них не хватает времени и сил. Мне есть, чем заняться, в мои семьдесят лет, чем просиживать часами у телевизора.
Константин Орищенко: А сами хотели бы написать сценарий для сериала?
Денис Драгунский: Нет, я пишу свои рассказы. Если кому-то понравится, захочется десять рассказов выстроить в сериал или один рассказ, раскрутить до размеров сериала, то ради Бога. Я дорого не возьму за авторские права.
Константин Орищенко: Вот у вас был такой эпизод, и вы на протяжении какого-то времени писали сценарии для «Ералаша»…
Денис Драгунский: Ну, короткое время писал сценарии для «Ералаша». Больше написал несколько фильмов под Виктора Драгунского, два двухсерийных фильма по «Денискиным рассказам» и еще один по фильму «Клоун» по повести моего отца «Сегодня и ежедневно». И в «Ералаше» были какие-то удачные сценарии. Но у меня это не пошло, как говорится.
Константин Орищенко: В одном из прямых эфиров Дарья Донцова рассказывала, что ей досталась ваша детская коляска.
Денис Драгунский: Было такое. Правда я этого не помню, я это помню со слов Дарьи Донцовой. Даже больше того, я почти уверен, что самой Гронечке Васильевой об этом рассказали мама с папой. Сама она была еще в том замечательном возрасте, что она процесса передачи коляски, конечно, запомнить не могла.
Константин Орищенко: Есть ли еще какие-то любопытные истории из детсва, которые связывают вас с известными писателями? Ведь в вашем доме наверняка было большое количество известных людей.
Денис Драгунский: Бывали. Да. Ну что, с какими известными писателями… Ну, например, у меня папа дружил с таким очень хорошим, но рано умершим писателем Ильей Зверевым, автором рассказа «Второе апреля» и не только. Хороший был писатель. У него были и очерки, и что хотите. Он был очень веселый и приятный человек. К сожалению, скончался совсем молодым человеком – где-то сорок с небольшим ему было. И с его дочкой я дружил, Машей Зверевой, известной сценаристкой советских сериалов. Она писала сценарии такие, по Константину Федину, в двадцать серий. В детстве я дружил с таким чу′дным мальчиком Володей Шаровым, который, к сожалению, скончался сравнительно недавно. Прекрасный прозаик, просто прекрасный прозаик. Вот, это к вопросу о детях. Я дружил с Ольгой Рязановой, дочерью Эльдара Александровича. Она киновед, искусствовед, кандидат наук и все такое. Но, должен вам сказать, что она человек исключительного остроумия и проницательности. Пишет замечательно, в фейсбуке ведет страницу. Я ей все говорю, что она должна написать книжку о своем отце. Думаю, что эта книжка будет, и мы ее прочтем с огромным удовольствием.
Константин Орищенко: На творчестве каких писателей вы выросли? В одном из интервью вы говорили про Стендаля, к творчеству которого вам привил интерес отец, в особенности отмечая его «Прогулки по Риму». Сегодня тоже упоминали его вкратце. Были ли еще какие-то имена?
Денис Драгунский: Ну, конечно, Господи. Чехов, прежде всего из русской литературы. Нет, ну, вся русская литература: Толстой, Достоевский, Гоголь, естественно. Все это помнится наизусть. Из западной литературы, в первую очередь, Стендаль. Уже когда повзрослее стал, Марсель Пруст. Но! На меня как на писателя сильнее всего повлияли – это звучит ужасно смешно – старинные итальянские новеллисты. Начиная от Джованни Боккаччо, а также Мазуччо, Боргалли, а также авторы коротких, острофабульных, очень остроумных и интересных рассказов. То есть я учился у Боккаччо и у Франка Саккетти. Это звучит, конечно, ужасно претенциозно, глупо смешно, хотя это именно так. Я их читал с карандашом в руках. Смотрел, как строится сюжет. Нравились своей краткостью, литой четкостью.
Константин Орищенко: К слову о Риме. Доводилось ли вам бывать в этом городе?
Денис Драгунский: Да, два раза. Это прекрасный, замечательный город. Был я в нем с перерывом в лет, наверное, двенадцать. Ну и, к сожалению, он всегда был туристическим. Но вот в последний раз, когда я был в Риме, вся главная площадь была заставлена киосками, где продаются маечки, косыночки и сумочки. Толпы народа на этой площади занимаются тем, что рассматривают маечки, косыночки и сумочки. И делают селфи на фоне маечек, косыночек и сумочек. Мне хочется спросить: слушайте, странные люди, зачем вы приехали в Рим? неужели вы приехали в Рим покупать маечки, косыночки и сумочки? Ну откройте глаза, посмотрите наверх, зайдите в музей с дешевым входом, где потрясающая коллекция мраморов находится античных. Нет, они толкутся и покупают эти идиотские сувениры – Храм Святого Петра в пластике.
Константин Орищенко: Какое у вас самое яркое воспоминание, связанное с Римом? Про себя могу рассказать, что впервые побывал в этом два года назад. Безумно понравилась итальянская атмосфера, особенно итальянской осени – это что-то волшебное. В сентябре-середине сентября – ничего подобного не видел. Мне ярко запомнился эпизод, когда я шел по одной из центральных улиц, неподалеку от Ватикана, и увидел, как местный музыкант исполняет песню Аллы Пугачевой.
Денис Драгунский: Ох, замечательно! У меня впечатление от Рима совершенно другое, на самом деле. Местного музыканта, исполняющего песню Пугачевой, я не видел, хотя представляю, что это было бы тоже меня очень растрогало. Дело в том, что я по образованию филолог-классик и для меня очень важны античная литература и культура. Для меня было очень важно и трогательно увидеть живьем вещи, которые я видел только на репродукциях. И когда я был в замечательном музее Альтемпс, рядом с Площадью Навона, рядом с гостиницей, где я жил, – и когда я увидел Трон Людовизи, Афродиту Книдскую (а я, извините, ее просто потрогал за лодыжку – и чуть не расплакался), вот это было, конечно, потрясающе.
Константин Орищенко: Есть ли у вас страна, в которой вы всегда мечтали побывать?
Денис Драгунский: Даже не знаю. Что-то африканское. Мне хочется побывать в Кинии или, с другой стороны совершенно, в Нигерии. Хочется увидеть что-нибудь такое, чего я никогда не видел. Я в восьмидесятом году побывал в Болгарии в первый раз, мне было почти тридцать лет. Это был мой первый заграничный выезд в советское время, и там я познакомился со старым болгарским дипломатом, как сейчас помню, его звали Владимир Антонович Недялков. И вот этот Владимир Антонович говорил мне, что нужно, конечно, здесь хорошо поездить, но, если будет возможность, пусть я ни в коем случае не еду в Европу, а еду в Африку. «Потому что вы приедете в Мюнхен, Лондон, Париж, куда хотите и будете узнавать, а в Африке вы будете изумляться».
Константин Орищенко: Это почти что увидеть Париж и умереть, только увидеть Африку – и обомлеть.
Денис Драгунский: Увидеть Африку и обомлеть!
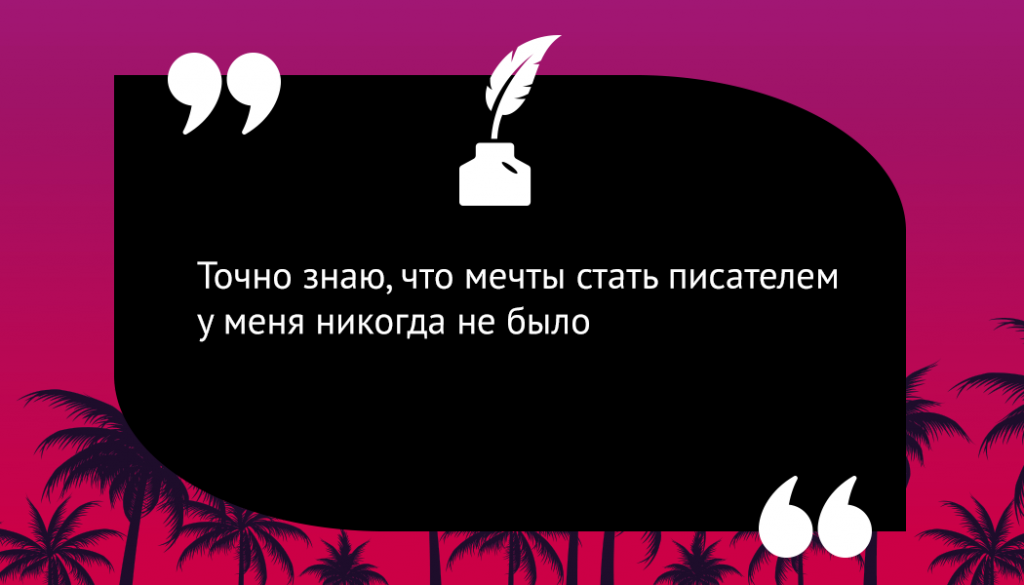
Константин Орищенко: Да, я тоже слышал такую точку зрения от многих людей, которые путешествовали и автостопом, и сами бывали в разных уголках земного шара, что Африка – это для европейского человека (и для нас) что-то совершенно особенное. Другой культурный код, другой ритм жизни.
Вы начали писать прозу в возрасте пятидесяти семи лет. В литературе есть множество примеров авторов, которые раскрылись после сорока. И в нашем ЛитРес: Журнале есть подробная статья, повествующая об их жизненном пути. Толкин, Эко, Улицкая, Коэльо – и в том числе вы. Расскажите, в какой момент поняли, что хотите заниматься сочинительством. Была ли это детская мечта, которая ждала своего часа?
Денис Драгунский: Я точно знаю, что мечты стать писателем у меня никогда не было. У меня была мечта – и она отчасти осуществилась – стать ученым. Она даже осуществилась два раза. Я был молодым филологом, изучал средневековые греческие манускрипты, и у меня уже была мечта стать еще и политологом – и она тоже осуществилась: я побыл им, защитил кандидатскую диссертацию. Можно сказать, добился результата – вывел некоторые соображения, которые даже иногда цитируют. А писателем я стал случайно – я всю жизнь был журналистом. Писал, писал, писал колонки, статьи, заметки – и так бесконечно. И это, кстати, полезная штука, она научила меня писать внятно и коротко. А писательство меня само как-то повлекло.
Константин Орищенко: Почему остановили свой выбор именно на коротких рассказах?
Денис Драгунский: А технически, потому что я начал писать свои рассказы, у меня был политический блог, и в нем я стал печатать смешные истории из жизни – литературные заметки. И вдруг я увидел, что это получило популярность. А в блоге, конечно, пишешь коротко. У меня даже была поставлена задача перед самим собой – две тысячи пятьсот знаков в рассказе. Зачем? Чтобы он целиком помещался на экране компьютера. Сидит в офисе человек, видит мой рассказ, кликает и быстро читает. Без вот этого скроллинга ужасного. Так что технология блогинга вызвала к жизни жанр короткой фабульной новеллы. Вот так у меня получилось.
Константин Орищенко: На вашем сайте написано, что в период с 2007 года, когда вы только начали писать, и по нынешнее время вы издали более тысячи двухсот новелл и двадцати художественных романов. Как…
Денис Драгунский: Не двадцать все-таки, понимаете. Давайте точно. Я издал двадцать четыре книги, а из них, строго говоря, двадцать две, потому что две из них – переиздания. Рассказов уже больше, их уже под полторы тысячи накопилось. Четыре романа и два сборника эссе.
Как удается? Да очень просто. Замечательно. Понимаете, я не склонен как-то сакрализовывать и мифологизировать литературное творчество. Фрезеровщика Петрова спросили: «Скажите, пожалуйста, как вам удалось выточить двадцать тысяч деталей?». Он говорит: «Да очень просто: утром приходишь на завод, подходишь к станку, смахиваешь с него пыль, вставляешь заготовку, берешь фрезу – и понеслась». Так же и писателя Драгунского спрашивают: «Как вы написали полторы тысячи рассказов?». «Да проще пареной репы: утром встал, овсяночки поел, сел к столу – и вперед. Все».
Константин Орищенко: То есть никаких творческих кризисов, душевных метаний – только долгая, упорная, кропотливая система?
Денис Драгунский: Нет, творческие кризисы, душевные метания, конечно, есть. Но они не отменяют кропотливой творческой работы. Когда у меня творческий кризис и душевные метания, я начинаю писать что-нибудь другое. Например, разбираться в своих дневниковых записях, которые я тоже веду постоянно. Например, перечитывать что-то свое старое, править его. Ну и так далее. Все равно все эти творческие кризисы нужно переживать за столом, а не в кабаке или на диване, лежа лицом к стенке. Работать надо все равно. Кстати говоря, самое лучшее лекарство от всех кризисов – все равно работа.
Константин Орищенко: Как думаете, кому из мастеров коротких рассказов удалось сделать то, что не вышло больше ни у кого?
Денис Драгунский: Пожалуй, нет. Самое смешное – называть автора непревзойденным. Ну, потому что, скажем, Чехов великолепный автор, лучший автор, может быть. Но при этом я могу себе представить, что Шервуд Андерсон – хотя он немного по-другому пишет, чем Чехов – все равно очень сильны автор. Какие-нибудь рассказы Фолкнера совсем другие, нежели у Чехова. Но он тоже очень силен. Кроме того, если заниматься профессией серьезно, то начинаешь видеть нитки и пружины. Чудес не бывает. Даже у самого чудесного и – в кавычках – непревзойденного автора, как Чехов, как Пушкин, как Мопассан, как Достоевский, видно, как написано произведение. Как это сделано, пожалуй, не видно только в некоторых вещах Льва Толстого. В его поздних повестях. И еще в «Вишневом саде» Чехова. Есть вещи загадочные, в которых непонятно, как это сделано. То есть нельзя сделать что-то похожее, потому что там уже обнаженная душа работает. Как будто пишет пульсирующее сердце. Таким вещам подражать бесполезно. А вот сделать такую же «Чайку» – да сколько угодно. Сделать такую же «Войну и мир» – на раз. А вот сделать «Отца Сергия» – никогда.
Полная версия беседы – в нашем подкасте