В издательстве Inspiria вышел второй роман Марике Лукас Рейневелд «Мой дорогой питомец» – история пятидесятилетнего ветеринара, одержимого девочкой-подростком. Предыдущий – «Неловкий вечер» – принес Рейневелд Международную Букеровскую премию. Провокационная новинка уже доступна на ЛитРес. Подробнее о ней – в рецензии Микаэля Дессе.
По промокоду febrislove дарим скидку 20 % на каталог Литрес + 2 книги из подборки в подарок!
1. uncomfortable, even painful
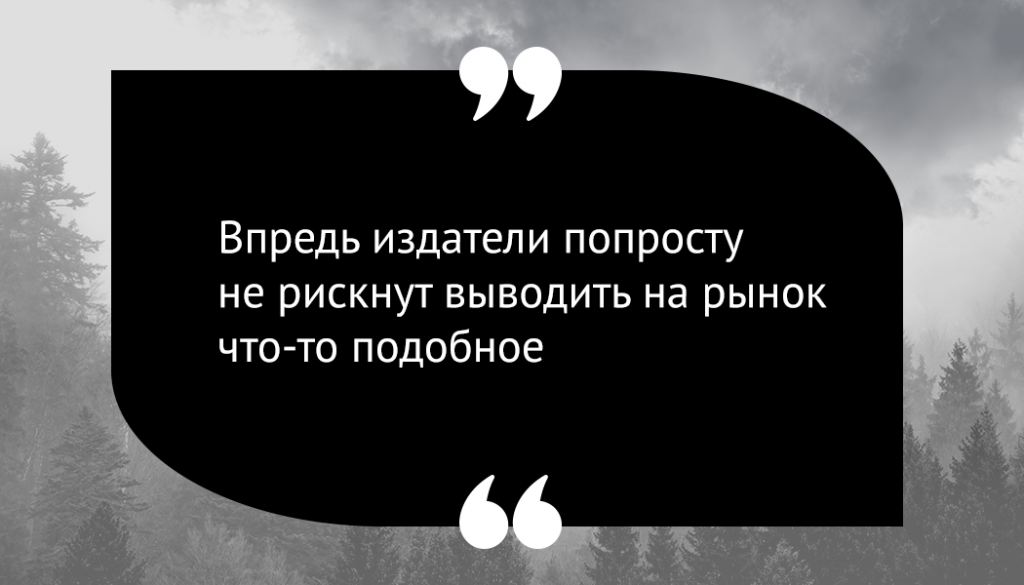
Летом 2020 года в Америке разгораются протесты против полицейского произвола и расовой дискриминации. 8 июня в Los Angeles Times выходит текст сценариста Джона Ридли под заголовком «Эй, HBO, фильм “Унесенные ветром” романтизируют ужасы рабства. Уберите его пока из каталога». Уже 10 июня картина пропадает из библиотеки стриминговой платформы HBO Max, а спустя две недели возвращается, дополненная комментарием киноведа Жаклин Стюарт. В коротком ролике она, в частности, обращает внимание на транслируемую авторами фильма ностальгию по довоенному Югу, игнорирование тягот рабства и последствий расовой сегрегации. Подобный комментарий теперь есть и у «Лолиты» Набокова, только в виде художественной книги.
Второй роман Рейневелд, «Мой дорогой питомец», вышел на языке оригинала в год, когда «Неловкий вечер», их дебют (будучи небинарной персоной, Марике Лукас Рейневелд использует в отношении себя гендерно-нейтральные местоимения – прим.ред.) обошел в букеровской гонке «Полицию памяти» Йоко Огавы, но издавать новинку на английском не торопятся. Возможно, дело в низком спросе на нравственный релятивизм среди англоязычной аудитории: «Мой дорогой питомец» – это сочувственный (роман написан от первого лица) портрет растлителя девочки-подростка.
Безымянный рассказчик – мужчина под пятьдесят, ветеринар – положил глаз на четырнадцатилетнюю дочку фермера. Он сближается с ней и впредь зовет своей «дорогой питомицей» или «птицей», а сам берет псевдоним «Курт» – по имени Курта Кобейна, кумира «птицы». Роман сфокусирован на миро- и самовосприятии гиперчувствительного подростка, которые в руках растлителя превращаются в консервный нож, а между строк запрятан важный сюжет о среде, в которой происходят преступления на сексуальной почве – зоне безразличия и пуританского замалчивания. Отчасти эта книга о мужчинах, которые предпочитают не замечать (отказ, крик о помощи), что придает ей веса в стране, консервативный поворот которой привел к патриархальному вывиху. Собственно, Inspiria с Рейневелд запрыгнули в последний вагон – книга вышла накануне принятия законов о «защите традиционных семейных ценностей». Впредь издатели попросту не рискнут выводить на рынок что-то подобное.
2. чистосердечное с подтасовкой
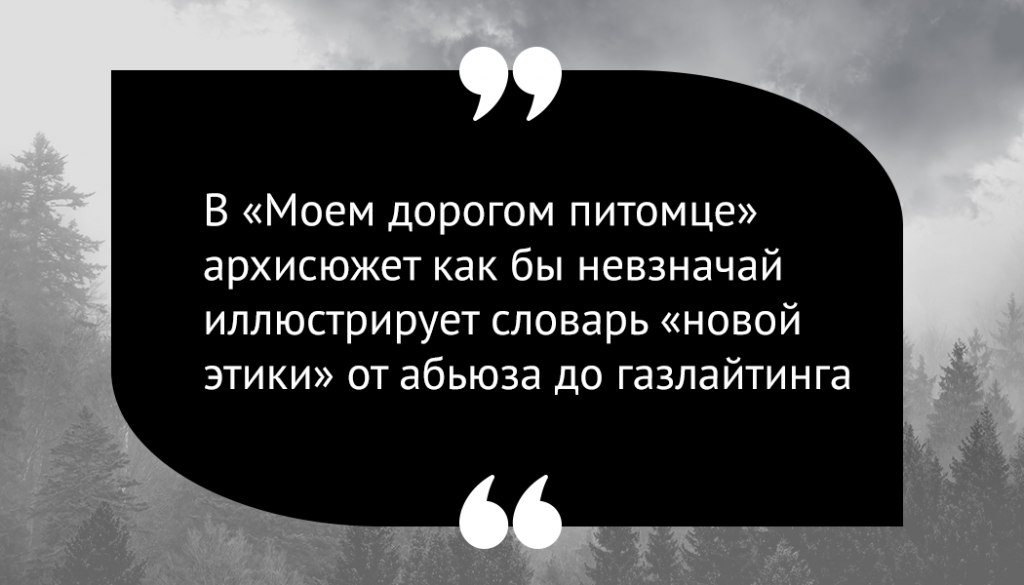
Выделим истории, данные через оптику сексуального хищника, в отдельный жанр – со своим Пантеоном, в котором, помимо «Лолиты», будет, скажем, «Тампа» Наттинг и «Духовка» Харитонова. Роман Рейневелд можно читать как метакомментарий к этому импровизированному канону – в «Моем дорогом питомце» история как бы невзначай иллюстрирует словарь «новой этики» от абьюза до газлайтинга, причем не упоминая самих терминов – по крайней мере в их актуальном значении, – не лишая героиню субъектности, а рассказчика – достоверности: «Курт», не брезгуя откровенной ложью, манипулирует несовершеннолетней девушкой, а в первой половине романа – еще и своим сыном, у которого с «птицей» завязывается роман:
«…позже я скажу ему, что не хочу, чтобы вы спешили, что ты непростая девушка, у тебя иногда было сумасшедшее настроение, да, сумасшедшее настроение, и я не хочу останавливать его, но он должен знать, кого выбирает, “даже если первая влюбленность закончится, тебе придется как следует над ней поработать, парень”, — скажу я и многозначительно посмотрю на него, указывая на девушек старше…».
Еще слово, подкрашенное «новоэтическим» дискурсом и играющее, пусть из-за кулис, важную роль в истории, – «травма». Травмированы оба – и она, и он, причем еще до знакомства друг с другом. «Птица» – двумя ранними утратами, «Курт» – психологическим насилием со стороны матери. Если рассматривать «социальную экологичность» как критерий оценки текста, «Мой дорогой питомец» – это, конечно, полный токсикоз.
«…на той неделе ты не появлялась под виадуком, ты сказала, что у тебя болят ноги, что у тебя мозоли размером с остров Пасхи, и я стал сварливым и подозрительным и написал, что это чушь собачья, да, чушь собачья, и поставил несколько восклицательных знаков “!!!” — ведь я знал, что ты не могла вынести, когда на тебя злятся…».
Как и положено хорошему писателю-моралисту, Рейневелд сдерживается и не выступает с отповедью, вынуждая злодея раскаяться и понести справедливое наказание, а предлагает роль судьи читателю. Это смелое по нынешним временам художественное решение гарантирует «Моему дорогому питомцу» политическую бесприютность: с точки зрения правого консерватора, роман похож на минное поле или – еще взрывоопаснее – заряженный феминистским месседжом дневник эфебофила; при этом для левой аудитории он слишком диффузный, ему недостает victim’s gaze, версии жертвы, обязательного атрибута всех историй о насилии в современном масскульте. С последним утверждением, впрочем, можно поспорить – мы узнаем о «птице» не меньше, чем о ее «паразите». Многое – по косвенным сведениям и абсолютно все – от ненадежного рассказчика, но тем не менее: вслед за ним мы входим в мир ее фантазий, в котором уживаются Фрейд, Гитлер и Королева Беатрикс, склеиваем из обрывочных сведений картину ее взаимоотношений с ровесниками и узнаем о фаллической фиксации, которая оказывается вовсе не тем, за что ее принимает «Курт».
3. барокко уголовных дел
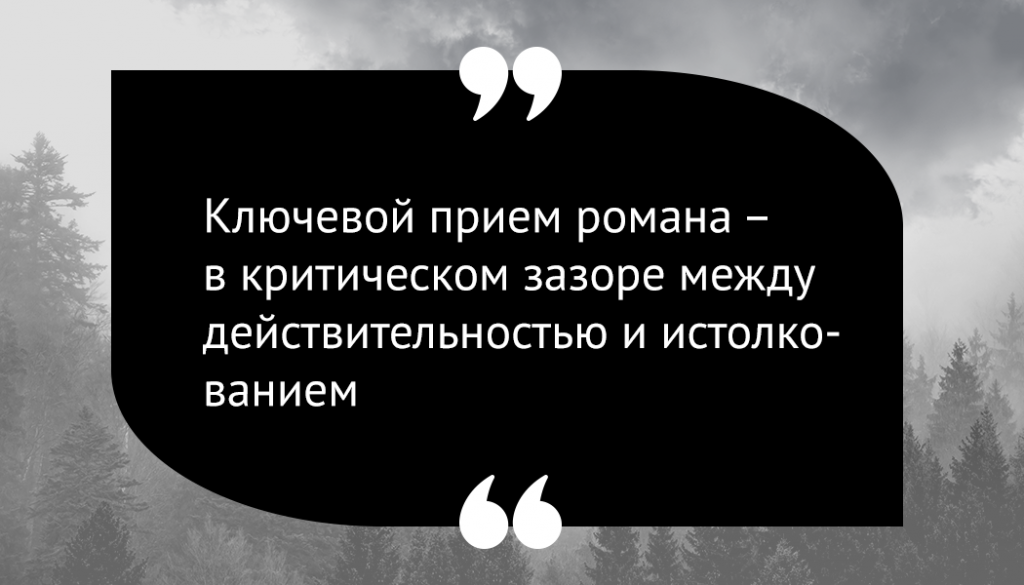
В критическом зазоре между действительностью и истолкованием и кроется ключевой прием романа. Описываемые в нем события относятся к началу двухтысячных, но язык «Моего дорогого питомца» забавно архаичен – перегружен образами и синтаксически неуклюж. Естественно, это стилизация, но ее функция раскрывается не сразу. То есть понятно, что Рейневелд отсылает нас к Набокову: «…ты была огнем моих чресл, и он так мучительно опалял меня, ты была моим алкоголем, моей сладостью», – но поначалу все эти многоярусные метафоры, вложенные в голову провинциального ветеринара, выглядят натужено. Прием обнажается ближе к сороковой странице, когда «Курт» обустраивает «любовное гнездышко» в кузове своего фургона:
«…я остался чрезвычайно доволен тем, как у нас все шло, и особенно покупкой матраса, моя машина стала нашим дворцом любви, я повесил на стену плакаты, один – с “Нирваной”, а второй – с королевой Беатрикс…».
Представили? Типичное логово маньяка. Но снуя среди полумертвого скота (в Европе гуляет ящур), по колено в навозе, «Курт» воображает себя героем-любовником и предается красноречиво описанным фантазиям. Далее с каждой страницей все явственнее проступает этот фантастический диссонанс, и в конце концов центральным конфликтом романа становится противостояние его поэтически окрашенного языка и до тошноты реалистической фабулы.
Такое возможно только в литературе. Тем временем рынок поощряет стремление авторов писать книги как сценарные заявки фильмов. Вот, к примеру, функционер Карен Шахназаров призывает перенимать опыт западных коллег:
«В России все хотят быть писателями и непременно уровня Достоевского. Наши литераторы фокусируются на пейзажах и внутреннем состоянии героя. <…> В Америке подход к литературе совсем другой. [Американские] писатели мечтают о голливудской славе и сразу пишут, ориентируясь на экранизацию. И нашим авторам стоит этому у них поучиться».
Еще конкретнее о дефиците романов-раскадровок говорит продюсер Иван Самохвалов, укоряя российских авторов в желании писать под Сорокина с Пелевиным, то есть концептуально, без должного внимания к сюжетной архитектуре.
Сам по себе запрос на альтернативу не оставит формальную литературу без читателя, но это явно очко в пользу нарратива, сформулированного Алексеем Ивановым:
«Совсем недавно культура была логоцентричной, то есть слово было вербальной основой. С появлением новых коммуникаций культура получила второй язык и стала иконоцентричной… <…> Квинтэссенция иконоцентричности – кино, и потому главные тренды теперь задает не литература, а кинематограф: разговор картинками. И роман XXI века объединяется своей природой с главным кинематографическим продуктом – драматическим сериалом. Точнее, у нового романа и драмсериала общий формат. Следовательно, современные романы нужно писать так, как делаются сериалы».
У вышеупомянутого Сорокина есть коротенькое эссе, в котором он вздыхает над экранизациями «Лолиты» и называет еще несколько неконвертируемых в кино шедевров литературы, без которых мир был бы местом похуже – это и «Улисс» Джойса, и «Москва – Петушки» Ерофеева, книги Платонова, Гоголя, сюда же – «Школа для дураков» Соколова, «Письмовник» Шишкина, «Дом листьев» Данилевского, наконец – почти вся библиография самого Сорокина. «Неснимаемая», перформативная проза, естественно, никуда не делась и даже метит в попкультуру: из недавнего можно отметить «Расстройство лички» Касалки – повествование там оформлено в виде стенограммы чата – и «Стрим» Шипнигова, состоящий из стилистически разнородных монологов. Но «Мой дорогой питомец» закован в текст крепче и первого, и второго – при попытке его экранизировать мы получим в лучшем случае голландского Балабанова, тогда как оригинал предполагает здоровую дозу лиризма и даже романтический флер.
В своем втором романе Рейневелд продолжает дело Бодлера – высаживает цветы там, куда другие не суются, будь то матка нерожавшей коровы (общее место «Неловкого вечера» и «Моего дорогого питомца») или мозг сексуального хищника. Содержание последнего выписано с такой скрупулезностью, что у читателя есть возможность поупражняться в профайлинге: Гумберт Гумберт рядом с «Куртом» выглядит как пугало рядом с анатомическим манекеном.
«Мой дорогой питомец», прямо скажем, не прецедент пинания почтенного мертвеца, но с технической стороны случай довольно любопытный. Существует несчетное множество способов пободаться с классикой. Можно, например, накатать несколько обиженных полос в «Таймс», а можно справиться с ресентиментом и оформить ответку в виде трехсотстраничного романа с мощным композиционным решением. Тут уж кто во что горазд.








