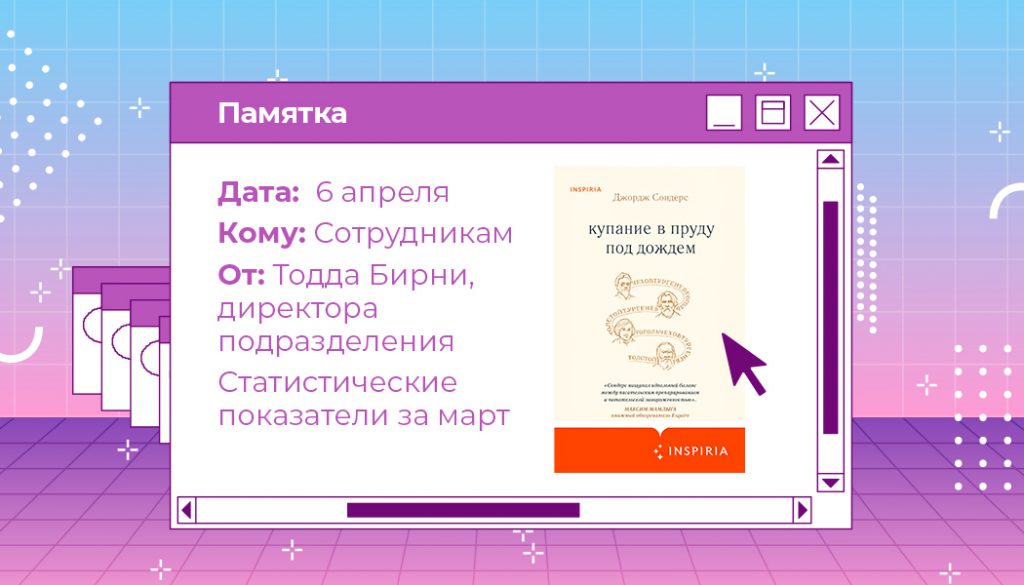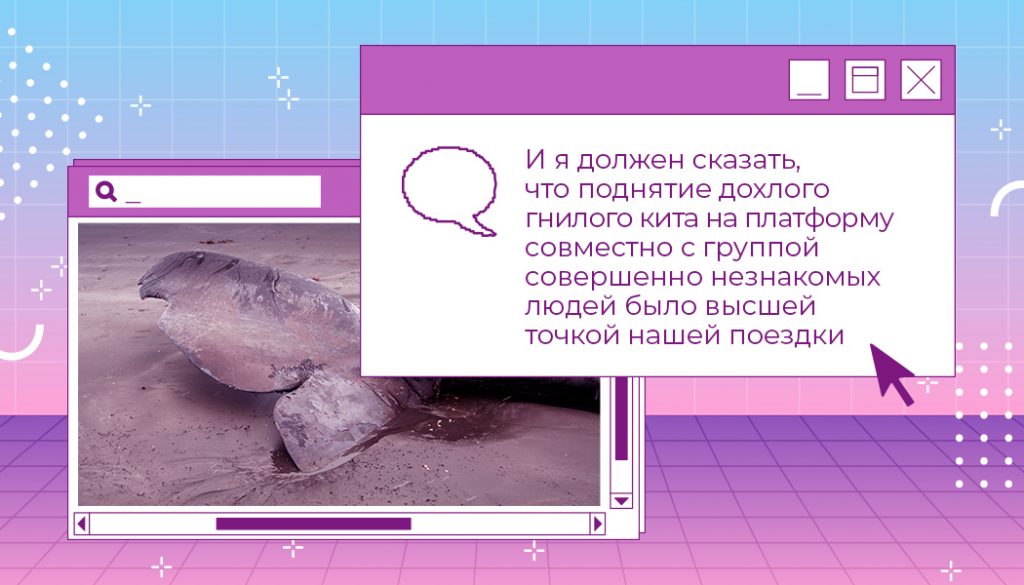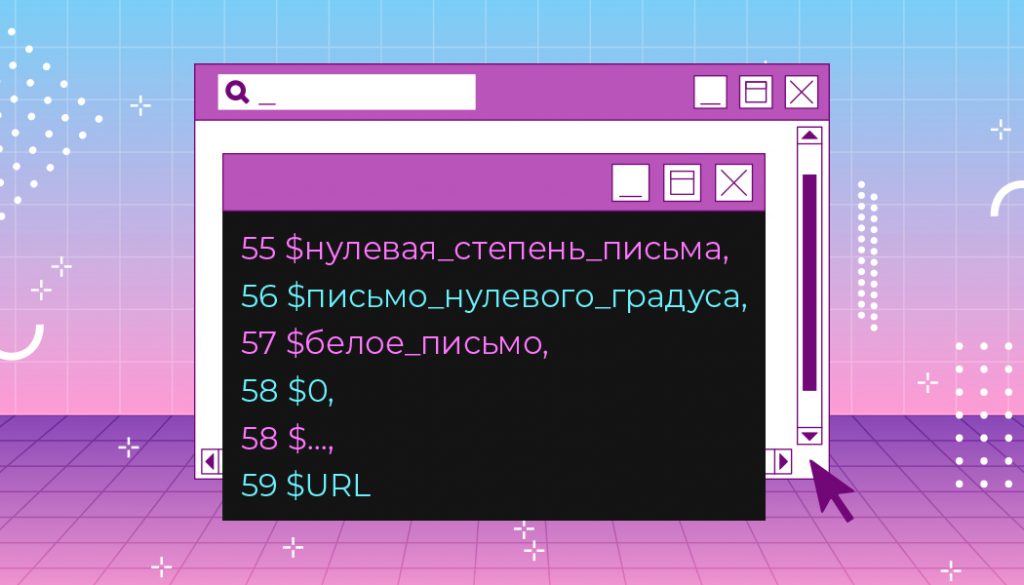Вышло «Купание в пруду под дождем» – пособие по писательскому мастерству, в котором постмодернист с сердцем Джордж Сондерс на примерах из Чехова, Толстого, Тургенева и Гоголя показывает, как делается короткая проза и выдающаяся литература в целом. В качестве контрмеры мы попросили Микаэля Дессе написать эссе по рассказу Сондерса из сборника «Десятое декабря». Текст последнего в переводе Григория Крылова с разрешения «Эксмо» мы публикуем целиком.
190 000 аудиокниг, подкастов и текстов по одной подписке
Увещевание
Джордж Сондерс
Мне бы не хотелось называть это просьбой, хотя оно и может таковой показаться (!). Дело в том, что у нас есть работа, которую мы должны выполнять, которую мы безоговорочно согласились выполнять (вы обналичили свой последний чек, я-то знаю – я свой обналичил, ха-ха-ха). Мы также – если мы сделаем в наших рассуждениях еще один шаг вперед – должны выполнять нашу работу хорошо. Теперь мы все знаем: один из способов сделать работу плохо – это проникнуться к ней отрицательным отношением. Скажем, нам нужно очистить антресоли. Воспользуемся этим примером. Если перед очисткой антресолей мы час обсуждаем процесс очистки антресолей, сетуем, опасаемся, исследуем нравственные тонкости очистки антресолей и все такое, то в этом случае происходит следующее: мы делаем процесс очистки антресолей более затруднительным, чем он есть на самом деле. Мы все прекрасно знаем, что «антресоли» будут очищены с учетом сложившихся обстоятельств либо вами, либо теми, кто вас заменит и получит ваш чек, так что вопрос сводится к следующему: Хочу ли я очистить антерсоли с радостью или хочу их очистить с грустью? Что будет способствовать моей цели с большей эффективностью? Я очищаю антресоли хорошо и очищаю быстро. И какое умственное состояние помогает мне очистить эти антресоли хорошо и быстро? Ответ на этот вопрос «негативное»? Негативное умственное состояние? Вы прекрасно знаете, что нет. Таким образом, суть этой памятки – позитивность. Позитивное умственное состояние позволит вам очистить антресоли хорошо и быстро, таким образом, вы достигните своей цели и получите деньги.
О чем я говорю? Я говорю, насвистывайте во время работы? Может, и говорю. Представим, что мы поднимаем тяжелую тушу, скажем, кита. (Простите это сопоставление антресоли/кит, мы только что вернулись из нашего дома на Рестон-Айленд, где было 1) много грязных антресолей и 2) да, хотите верьте, хотите нет, настоящая разлагающаяся китовая туша, и мы – Тимми, Вэнс и я – участвовали в уборке.) И вот, скажем, вам – вам и вашим коллегам – поручили поднять тяжелую тушу на платформу. Теперь мы все знаем, как это тяжело. А вот что будет еще тяжелее: делать это при негативном отношении. Мы – Тимми, Вэнс и я – обнаружили, что даже при нейтральном отношении вы берете на себя очень тяжелую задачу. Мы – Тимми, Вэнс и я вместе с десятком других людей – пытались поднять эту тушу, относясь к задаче нейтрально, и ничего не получилось, мы не могли сдвинуть кита с места, пока вдруг один парень, бывший морской пехотинец, не сказал, что нам нужно это обдумать, потом он собрал нас в кружок, и мы вроде как немного попели. Мы «подзарядились». Если продолжить приведенную выше аналогию, мы знали, что нам нужно сделать работу, и типа возбудились по этому поводу и решили проделать ее при позитивном настрое, и я должен вам сказать, в этом что-то было, это было забавно, забавно, когда с нашей помощью кит оказался в воздухе и с помощью толстых ремней, которые нашлись в фургоне у морпеха, и я должен сказать, что поднятие дохлого гнилого кита на платформу совместно с группой совершенно незнакомых людей было высшей точкой нашей поездки.
Так что я говорю? Я говорю (и говорю с воодушевлением, потому что это важно): Давайте попробуем, если сможем, минимизировать брюзжание и неуверенность в себе относительно тех заданий, которые нам иногда приходится здесь выполнять и которые, может быть, не кажутся, на первый взгляд, особенно привлекательными. Я говорю, давайте не будем пытаться рассматривать каждую маленькую работу, которую мы выполняем, с точки зрения высшего добра/зла/безразличия, с точки зрения морали. Время подобных оценок давно прошло. Надеюсь, что каждый из нас имел подобный разговор с самим собой почти год назад, когда все это только начиналось. Мы встали на этот путь, а если уж мы встали на этот путь с самыми благими намерениями (как мы решили год назад), разве не будет в некотором роде самоубийственным действием допустить, чтобы наше продвижение по этому пути замедлилось невротическими сомнениями в его правильности? Кто-нибудь из вас когда-нибудь работал кувалдой? Я знаю, что кое-кто работал. Я знаю, что некоторые из вас делали это, когда мы разрушали патио Рика. Разве не здорово, когда вы не сдерживаетесь, а колотите и колотите, позволяя гравитации помогать вам? Друзья, я говорю: позвольте гравитации помочь вам и здесь, в нашей рабочей ситуации. Бейте, отдайтесь природному чувству – а я видел, как время от времени оно генерирует огромную энергию во многих из вас с точки зрения выполнения данной задачи с рвением и без сомнений в правильности пути и невротических мыслей. Помните неделю побития рекордов у Энди в октябре, когда он удвоил свое обычное число единиц? Забывая в тот момент обо всем остальном, не предаваясь слюнтяйским мыслям о добре/зле и т. д., и т. п.; разве это не было что-то? Само по себе? Я думаю, если каждый из нас заглянет себе в душу, то никто не сможет сказать, что он немного не завидовал? Господи боже, Энди действительно вкалывал изо всех сил, и каждый раз, когда он проносился мимо, чтобы взять дополнительные полотенца для чистки, на его лице читалась энергетическая радость. А мы там просто стояли, типа вау, Энди, что это с тобой случилось такое? И с его показателями не поспоришь. А они там, в нашей комнате отдыха, можно посмотреть: выше всех других показателей, и хотя Энди не удалось их умножить за время, прошедшее с октября, 1) никто не винит его в этом, потому что те показатели были и в самом деле очень высоки, и 2) я считаю, что, даже если Энди никогда не сможет превзойти свои показатели, он, вероятно, в глубине души тайно лелеет воспоминание о той чудесной энергии, которая переполняла его в тот достопамятный октябрь. Скажу откровенно, я не думаю, что у Энди мог бы случиться такой октябрь, если бы он был неженкой, или предавался сомнительным невротическим мыслям, или был склонен сомневаться в правильности избранного пути. Вы думаете? Я вот нет. Энди был абсолютно сосредоточен, не думал о себе – вы сами видели это по его лицу. Может быть, из-за нового ребенка? (Если так, то Джанис следует рожать нового каждую неделю, ха-ха.)
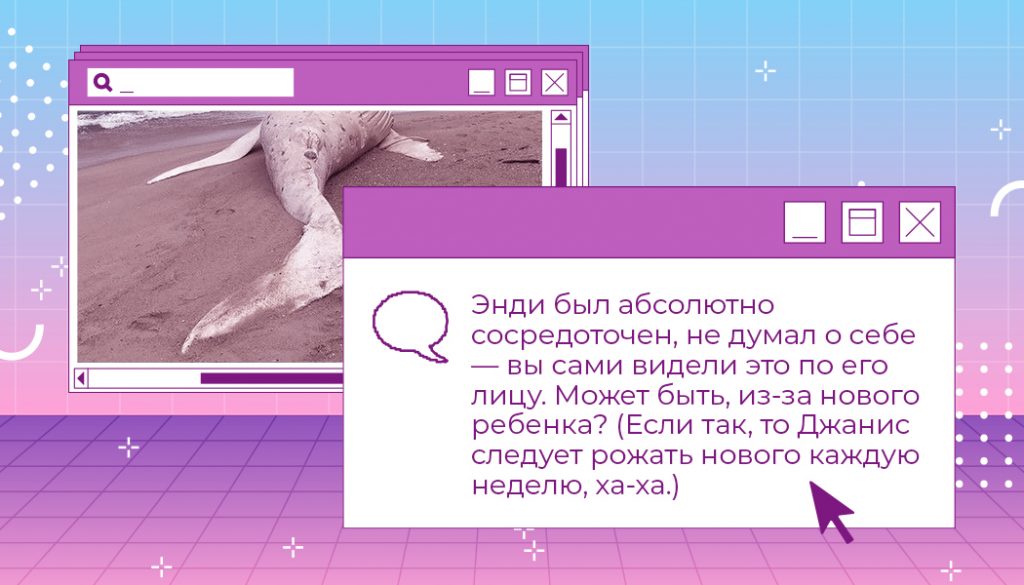
Как бы то ни было, но в том октябре Энди дефакто вошел – по крайней мере для меня – в некий Зал славы, и с тех пор он, по сути, выведен из-под тщательного мониторинга его показателей, по крайней мере, я этого не делаю. В какое бы уныние он ни погружался, как бы ни уходил в себя (а я думаю, мы все заметили, что он пребывает в сильном унынии и уходе в себя после октября), вы можете заметить, что я не веду тщательный мониторинг его показателей; хотя за других и не могу поручиться, другие, возможно, мониторят и встревожены падением показателей Энди, хотя вообще-то я думаю, они этого не делают, это было бы несправедливо; и поверьте мне, если я что узнаю об этом, то определенно сообщу Энди, а если его депрессия не позволит ему выслушать меня, то я сообщу Джанис.
Что касается того, почему Энди пребывает в таком унынии, мое предположение состоит в том, что у него нервный срыв, он начал сомневаться в правильности своих действий в октябре – и, вау, разве это не было бы позором, безнадежным проигрышем, если Энди, завершив тот рекордный октябрь, принялся бы рыдать по этому поводу? Разве рыдания могут что-нибудь изменить? Разве действия, совершенные Энди в смысле выполнения им порученного ему мною задания в Комнате 6, можно изменить рыданиями, разве показатели на стене в Комнате отдыха могут от этого чудесным образом упасть, разве люди, выходящие из Комнаты 6, снова прекрасно себя чувствуют? Мы отлично знаем: нет, не чувствуют. Никто не выходит из комнаты 6, чувствуя себя превосходно. Даже вы, друзья, вы, кто делает в Комнате 6 то, что необходимо делать, не выходите оттуда в суперпревосходном самочувствии; я это знаю, я-то точно делал в Комнате 6 вещи, которые не приводили меня в восторг, поверьте, никто не пытается отрицать, что Комната 6 бывает отвратительной, наша работа очень нелегка. Но вышестоящее начальство, те, кто спускает нам предписания, видимо, считает, что работа, которую мы ведем в Комнате 6, не только тяжелая, но и важная, и я подозреваю, именно поэтому они стали вести тщательное наблюдение за нашими показателями. И поверьте, если вы хотите, чтобы Комната 6 стала еще более отвратительной, то переживайте по этому поводу до, после и во время работы, – и тогда она в самом деле превратится в черт знает что, плюс ко всем вашим переживаниям показатели упадут еще ниже, и догадайтесь, к чему это приведет: Это просто исключается. Мне недвусмысленно заявили на Секционном заседании: наши показатели больше не должны падать. Я сказал (а для этого потребовалось известное мужество с учетом атмосферы на Секционных заседаниях): Послушайте, мои люди устали, мы заняты тяжелым – как физически, так и психологически – трудом. И поверьте мне, в тот момент на заседании воцарилась мертвая тишина. В буквальном смысле мертвая. И взгляды, которыми меня мерили, не были доброжелательными. И мне недвусмысленно напомнили – сделал это сам Хью Бланчерт, – что наши показатели не должны падать. И попросили напомнить вам – напомнить нам, всем нам, включая и меня, – что если мы не сможем очистить назначенные нам «антресоли», то не только для очистки этих «антресолей» будет привлечен кто-то другой, но и мы сами можем оказаться на этих «антресолях», стать этими «антресолями», а кто-то другой навалится на всех нас со всей хорошей положительной энергией. И в это время я думаю, вы можете себе представить, какое сожаление вы будете испытывать; на ваших лицах будет написано то самое сожаление, которое мы иногда видим в Комнате 6, это сожаление на лицах «антресолей», когда их вычищают; и потому прямо и резко прошу вас делать все возможное, чтобы не оказаться «антресолями», которые нам, вашим бывшим коллегам, придется очищать очищать очищать, не оглядываясь, используя всю нашу положительную энергию в Комнате 6.
Мне это ясно дали понять на Секционном заседании, и теперь я пытаюсь донести это до вас.
Я вас убеждал и убеждал, но прошу вас, все, у кого есть сомнения, сомнения в том, что мы делаем, приходите в мой кабинет, и я покажу вам фотографии этого невероятного кита, которого мы с сыновьями подняли, используя нашу хорошую положительную энергию. И, конечно, информация о том, что вас одолевают сомнения и вы приходили ко мне в кабинет, не выйдет за стены моего кабинета, хотя я уверен, мне даже не нужно это говорить кому-либо из вас, ведь вы знаете меня все эти долгие годы.
Все будет хорошо и все будет хорошо и т. д., и т. п.
Тодд
Чтобы прочитать рассказ, щелкните на спойлер выше
Неизящная словесность: в сущности, одно соображение о рассказе «Увещевание»
В «На затравку» Чак Паланик взывает: «Забудьте о прилизанном, идеально правильном языке: история не должна звучать так, будто ее написал писатель». Эта мысль может показаться радикальной авторам до 35, книги которых кочуют по длинным и коротким спискам российских литературных премий. Их толстожурнальная прилежность – золотой стандарт в стране, где оторванная от живой речи выразительность текста (а равно – повышенная концентрация метафор и афоризмов) по-прежнему считается критерием его качества. К примеру, Галина Юзефович – пожалуй, самый известный русскоязычный литературный критик – так пишет про Михаила Шишкина, наследника литературного барокко Набокова: «…как ни крути, а людей, пишущих по-русски [лучше, чем он,] сейчас немного – честно говоря, так навскидку никто вообще в голову не приходит»[1].
Хороший стиль в художественной литературе – это такой бигфут. Все с ним знакомы, но его не существует. Манера изложения, которая исправно обслуживает художественный замысел, – это хороший стиль. То есть малограмотное арго в люмпенском цикле Ирвина Уэлша – это хороший стиль; минимализм экзистенциальных ужастиков Данилова и тотальная поэтизация Шишкина – тоже; бессодержательная говорливость «Гламорамы», написанной от лица полудурка, выучившего грамоту по глянцевым журналам, – очевидно удачное решение, а вот остроумное, ритмичное, напичканное изобретательными метафорами изложение в книге, описывающей последние часы жизни молодого еврея в Освенциме, – это пример плохого стиля[2].
Литература – самое условное из традиционных нарративных искусств. Все, что она предлагает, – это буквы, символы. Читатель должен верить в предполагаемые за ними лица, страсти, целые миры. В кино вы героя видите и слышите. В видеоигре – еще и управляете им. Погружаясь в иллюзию аудиовизуального вымысла, вы прилагаете гораздо меньше усилий, чем когда читаете книгу. В условиях конкуренции художественных языков это вынуждает писателей и теоретиков литературы исследовать границы ее миметического потенциала[3]. Одно из немногих артикулированных открытый в этом направлении совершил Ролан Барт, предложив концепцию «нулевой степени письма». Что это такое, объяснить не трудно, но дать исчерпывающую формулировку не получится из-за множества противоречащих друг другу интерпретаций. В эссе, посвященном Альберу Камю[4], Самарий Великовский определяет «нулевую степень письма» (по тексту – «нулевой градус») как «особую повествовательную структуру мышления почти замолкшего, бесструктурно-рыхлого, с нулевым накалом умственного напряжения»[5]. Гораздо конкретнее Сильва Геворкян: «[“Нулевая степень письма” – это теоретический, конструкт, который] определяется как письменный текст в изъявительном наклонении, отражающий журналистский стиль объективного и беспристрастного изложения текущей событийности, нейтральную точку зрения на актуальную ситуацию, отсутствие индивидуалистической позиции по отношению к фактам социально-политической реальности»[6]. В самом общем смысле стремление к «нулевой степени письма» выражено в отказе от «литературности», в попытке уничтожить стену между читателем и тем, что текст описывает, то есть достигнутая «нулевая степень» – это когда вы читаете не рассказ про девочку, жующую хурму (это текст в «первой степени»), а читаете саму девочку, жующую хурму, – что, конечно, невозможно, но концепция здорово будоражит воображение, особенно на фоне кризиса традиционных форм литературного сказительства, давно освоенных кинематографом, и всеобщей охоты за новой аутентичностью.
«Остудить» текст можно по-разному, прежде всего его следует расчистить от базовых литературных условностей, вроде повествования от третьего лица, всезнающего рассказчика, искусственно раздутого словаря, общей выспренности, тщательной атрибуции диалогов, архетипичных героев и т.д. Паланик в «На затравку» предлагает поискать вдохновение в нехудожественных формах. Протоколы, инструкции, рекламные листовки, исписанные стены общественных туалетов – все это шаблоны, пригодные для рассказывания историй. Я уж молчу про письма корпоративной рассылки.
Считается, что главный мотив в прозе Джорджа Сондерса – критика капитализма[7]. Так, по словам Джуно Диаса, Сондерс обличает «абсурдный и расчеловечивающий характер культуры капитала наших дней». И Сондерс, в общем, подтверждает: «Я придерживаюсь той точки зрения, что капитализм может быть агрессивной, жестокой машиной, сметающей все на своем пути». Примечательно, что букеровский лауреат отучился на инженера и какое-то время работал на нефтяных скважинах – так или иначе трудовая эксплуатация присутствует почти во всех его ранних рассказах. В последнем сборнике, «Десятое декабря», наиболее отчетливо эта тема звучит в трех текстах – «Бегство из головогруди», «Дневник времен девушек Семплики» и «Увещевание» – причем в последних двух Сондерс берет оптику эксплуататора, в случае же «Увещевания» содержание вообще несколько уступает форме. Сондерс называет такую технику повествования «следованием за голосом». В «Купании в пруду под дождем» он вспоминает, как вырастил рассказ из косноязычного оборота, повстречавшегося ему в сочинении одного из своих студентов: «По ознакомлении с этим рассказом ощутил в себе отчетливый крен». Сондерс расслышал строчку и посадил ее на бумагу, там проклюнулся герой, а дальше его вела уже интонация: «Главное, что я хочу сказать о таком способе писать: это весело. Применяя его, я слежу почти исключительно за тем, чтобы поддерживать выбранный голос, – не думаю ни о сюжетных линиях рассказа, ни о том, что там произойдет дальше».
Что характерно, цветком нарождающегося стиля (а поскольку повествование ведется от первого лица, читайте – героя) становится именно его несовершенство: «В рассказе, о котором речь идет выше (“Джон”), я, ежедневно усаживаясь писать, позволял себе, скажем так, подкручивать у себя в голове некий регулятор под названием “Уровень косноязычия”. То есть позволял себе быть (еще) более косноязычным, чем обычно, ослабляя саморедактирование-перед-высказыванием, какое мы применяем обычно. Ну то есть играл на слух: “Короче, изображаем серфингиста пополам с корпоративным занудой”. Я ставил себе задачу сочинять фразы так, чтоб из-за синтаксиса они получались забавными, но при этом оставались действенными».
Нет никаких сомнений, что «Увещевание» писалось схожим образом.
У предложенной техники есть свои минусы – композиционно текст «Увещевания» кажется случайным и изломанным (но только кажется), при этом в нем присутствуют многие комплектующие отличной истории, перечисленные Уиллом Сторром во «Внутреннем рассказчике» – книге, в которой различные повествовательные элементы и драматургические приемы рассматриваются через призму нейронаук. В частности, Сторр отмечает эффективность ожидания неких перемен – в рассказе Сондерса их обещает не открывающая фраза, а, собственно, форма. Пробежав глазами первые строчки, мы уже знаем, что это письмо от начальника (директора) отдела. Начальники не пишут просто так. Если сегодня не ваш день рождения, а в теме написано «статистические показатели за март», самое время напрячься.
Далее в игру вступает несовершенный герой – еще один капкан, согласно Сторру. Начальник (мы узнали, что его зовут Тодд), кажется, ничего не смыслит в деловой переписке. Его мысль растекается, наполняя монструозные абзацы, он сбивается и повторяет одно и то же: «наша работа нелегка, но делать ее нужно». С одной стороны, небезупречный ход мысли небезупречного рассказчика вызывает в нас живой антропологический интерес, с другой – читать это было бы невозможно, если бы не бензоколонки – так сам Сондерс называет элементы рассказа, подпитывающие наше любопытство и заставляющие продолжать чтение[8]. Такие есть в каждом крупном абзаце «Увещевания»:
- Почти сразу становится понятно, что пример с антресолями здесь – эвфемизм. Автор письма почему-то расшаркивается и не называет по имени род деятельности своих подчиненных.
- История с китом, занимающая почти весь второй абзац, продолжает отодвигать момент ясности. Читатель попался – еще не отдавая себе отчет, он хочет узнать, о какой работе идет речь.
- Наконец мы получаем часть пазла – и она тревожит: во-первых, судя по всему, подчиненные Тодда занимаются чем-то неоднозначным с точки зрения этики. Начальник буквально призывает их нравственно ослепнуть и пишет, что сомневаться надо было год назад, «когда все только начиналось»; во-вторых, возникает образ кувалды – такими, как следует из письма, часть адресатов разносила патио некоего Рика (за что?), и выясняется, что трудовые обязанности подчиненных Тодда включают применение силы: «Бейте, отдайтесь природному чувству», – в результате которого сотрудникам требуются «полотенца для чистки» (в оригинале – cleanup towels).
- В четвертом абзаце мы – внимание наше на пределе – пытаемся отыскать новые подсказки в ситуации с Энди – ударником, показатели которого серьезно просели. Тодд явно подстрекает подчиненных следить за неуспехами коллег и готов безропотно вторгнуться их в личное пространство – он ищет предлог сообщить семье Энди о его низкой эффективности.
- Что-то по-настоящему жуткое творится в Комнате 6, а Тодд угрожает сотрудникам уже не увольнением, а убийством – и снова возникает аналогия с антресолями, вот зачем она была нужна: «… если мы не сможем очистить назначенные нам “антресоли”, то не только для очистки этих “антресолей” будет привлечен кто-то другой, но и мы сами можем оказаться на этих “антресолях”, стать этими “антресолями”, а кто-то другой навалится на всех нас со всей хорошей положительной энергией».
Далее следует еще три коротких абзаца – и рассказ обрывается. Читатель остается один на один с кучей вопросов. Бедный Рик. Гений Сондерса заключается в том, что он идеально рассчитал, до куда приоткрыть ширму: чуть меньше или чуть больше – и гадать, что же там за дверью Комнаты 6, было бы не интересно. Отчасти наше любопытство продиктовано верой в прочитанное – и здесь мы делаем несколько шагов назад: стилизованное под документ «Увещевание» – это не рассказ о перемалывающих людей индустриальных жерновах, это и есть перемалывающие людей индустриальные жернова, их реплика в миниатюре. Здесь нет посредников, нет высшего голоса, который осудил бы Тодда или посмеялся над ним вместе с нами. Есть только текст, и нам не нужно особо стараться, чтобы приостановить неверие – что касается формы, перед нами обыкновенный имейл, в нем нет стройной экспозиции и каких бы то ни было иных структурных элементов, указывающих на его художественность. Он выглядит ровно так, как и должно выглядеть письмо на корпоративной почте (даже чуть более туманное и синтаксически кривое, чем настоящее).
Конечно, это не «нулевой градус», но уже приятная прохлада, особенно на фоне средней температуры современной русскоязычной прозы. Почему так? Нас учили, что тавтология и слова паразиты – это плохо, что рассказчик равно автор (поэтому «Американский психопат» и «Все оттенки голубого» – вовсе не сатирические шедевры, а безнравственные книги, написанные безнравственными людьми), что должны быть экспозиция-завязка-кульминация-развязка-заключение – и никак иначе. И пока Михаил Гиголашвили всерьез распекает Дмитрия Данилова, называя «графоманом, не имеющим понятия о том, что такое художественная лексика», Сондерс пишет такие вот рассказы. Имеет ли он понятие о том, что такое художественная лексика? Судя по тому, как написаны эссе в «Купании», – да, имеет, и художественные свои тексты Сондерс мог писать ровнее, но не стал. Во «Французском вестнике» Уэса Андерсона есть гениальная сцена: арт-дилер Джулиан Кадазио презентует своим весьма состоятельным знакомым портрет девушки кисти Розенталера, отбывающего тюремный срок диковатого импрессиониста. Девушка на холсте не угадывается, лишь бесформенный сгусток плоти. Толстосумы озадачены. «Уж поверьте, – говорит Кадазио, – она тут есть». Он демонстрирует гостям «идеальный» рисунок воробья: «Сорок пять секунд, горелой спичкой у меня на глазах. <…> Суть в том, что он может рисовать так, если захочет, но считает, что это, – камера устремляется на портрет девушки, – лучше».
А теперь прокрутите в голове всю сцену, поменяв местами воробья и девушку.
[1] Есть еще такой критерий качества, как правдоподобие. Он распространяется в равной степени на содержание и форму. Шишкин, например, пишет диалоги, в которых деепричастные обороты – обычное дело. Часто ли в устном разговоре вы используете синтаксис письменной речи? «И тогда, смахнув туман любовного наваждения, я поняла, что Паша – быдло, конечно, редкостное».
[2] Или нет? Все так же зависит от художественного замысла и/или его «считываемости» (успешное следование замыслу – вообще большая редкость). Если таким образом автор намеревался – либо не намеревался, но у него вышло – шокировать читателя, проиллюстрировать контрастом формы и содержания абсурд Холокоста – что ж, хорошо.
[3] Так, изобретение и распространение фотографии вынудило живопись уступить ей поле реализма, что поспособствовало возникновению новых течений, таких как постимпрессионизм, кубизм, сюрреализм и т.д. – художники искали новые выражения там, где камера была бессильна.
[4] Текст под названием «Проклятые вопросы Камю» открывает некоторые позднесоветские сборники его прозы, включающие «Постороннего».
[5] Самого философа Великовский даже не называет по имени – тот становится просто «одним из истолкователей “Постороннего”».
[6] Геворкян С. С. Повествовательная техника рассказчика в романе Дж. Хеллера «Поправка-22»: беспристрастность, иллюзия, контраст // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2022. №6.
[7] Я бы сказал – критика добровольной каторги. В романе «Линкольн в бардо» наиболее драматичная сцена возникает из-за того, что должностные обязанности не позволяют отцу как следует оплакать скончавшегося сына.
[8] Нечто подобное встречается и в пособии Паланика – вторя великому редактору Гордону Лишу, он называет силы, тянущие читателя через текст, лошадками. Мастера в принципе часто дублируют друг друга. Например, еще один термин, предложенный Сондерсом – принцип Конфелда – почти дословно воспроизводит правило хорошего сценария из письма, которое Дэвид Мэмета разослал авторам сериала «Отряд “Антитеррор”»: каждая сцена должна не только двигать сюжет вперед, но и развлекать сама по себе. По забавному совпадению оригинал письма Мэмета отдельными пассажами («нас наняли» и «мы условились») напоминает текст «Увещевания».