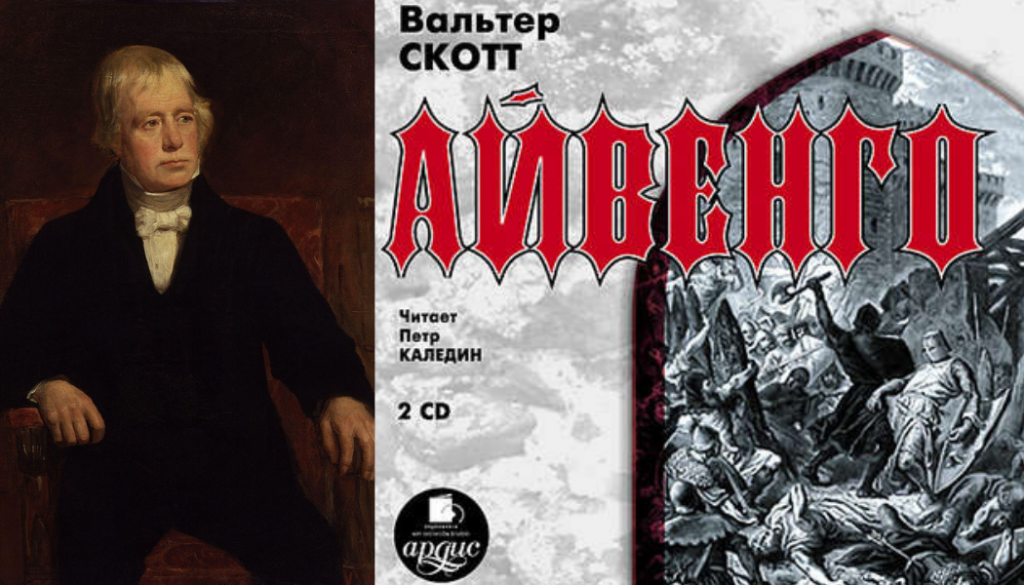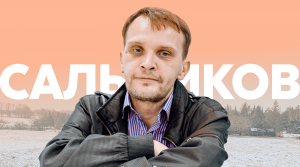Новая книга Алексея Иванова «Тени тевтонов» — историко-приключенческий роман, прошитый мистическими и философскими нитями, соединяющими два слоя времени — ещё не препарирован адептами фактической достоверности. Но читательских оценок содержания уже множество. Одним нравится, что атмосфера эпохи воссоздаётся через «сумрачный латино-германский лексикон». Других это раздражает:
«В глазах рябит от многочисленных фольварков, форбургов, штейнбюксов, дюзаков, бацинетов, юбервурфов, бургфридов, дюнбуксов и прочих герренмантелей». Кого-то смущают досадные неточности и весьма вольные переосмысления: «Осада Мариенбурга, в реальном 1457 году представлявшая собой не более чем очень некрасивую историю с наёмниками, силой воображения Иванова превратилась в драматическую историю, по уровню эпичности сопоставимую с битвой при Хельмовой пади из “Властелина Колец”».
А кто-то, наоборот, сетует: «Понятно, что А.Иванов хорошо изучил историю Тевтонского ордена, но выдавать историческую книгу за художественную — это обман читателя».
Споры о фактологической насыщенности исторического романа и пределах погрешностей ведутся с рождения этого жанра. Достаточно вспомнить, как ко всеобщему восхищению «Айвенго» Вальтера Скотта (роман был издан в 1819 году, автор на тот момент считался вполне компетентным медиевистом) добавились академические упрёки в анахронизмах, вольных трактовках и смещениях в хронологии. В нашей стране, где минувшее постоянно становится злободневным, популярный прозаик, обратившийся к истории, едва ли не обречён на разбор полётов. «Как писать о прошлом? Документ и вымысел в русской прозе» — так назвалась дискуссия, состоявшаяся в лектории «Редакции Елены Шубиной» на литературной ярмарке non/fictio№22. Логично, что участвовать в ней предложили Алексею Иванову.
«Главный инструмент историка — это факт, а главный инструмент писателя — это образ, — терпеливо объяснял он слушателям. — Чтобы образ был более выразителен, порою приходится несколько отступать от факта. Но, разумеется, в допустимых пределах — так, чтобы не нарушалась структурная основа истории».
В качестве примера Иванов привёл эпизод из романа «Тобол» — прибытие князя Гагарина в Тобольск летом 1711 года: толпа ахнула, когда с изукрашенной барки, пришедшей по Иртышу, на берег спустили роскошную карету, какую здесь никогда не видывали; но вот новый губернатор сел в экипаж, и собравшийся народ вдруг подхватил его и на своих руках и плечах вынес на высокий взвоз, откуда открывался бескрайний простор сибирского края. На самом деле князь Гагарин приехал зимой, на санях — обыденно, хоть встреча и была торжественной.
«Я хотел показать народную удаль, народную мощь, — пояснил Иванов. — И поэтому перенес время прибытия губернатора на полгода. Для истории никакой разницы в этом нет. Главное, что приехал».
Если быть пристрастным, то такой подход можно расценить как пренебрежение фактом «ради красного словца». Когда разгорелись словесные баталии по поводу достоверности «Эшелона на Самарканд» Гузель Яхиной, в сетевых комментариях в качестве образцового исторического романа не раз упомянули «Войну и мир». За полтораста лет совсем позабылось (а в школах об этом, разумеется, не рассказывают), какая волна обвинений обрушилась на Льва Толстого в процессе публикации эпопеи.
«Я сам был участником Бородинской битвы и близким очевидцем картин, так неверно изображённых графом Толстым, и переубедить меня в том, что я доказываю, никто не в силах», — негодовал Авраам Норов, бывший министр народного просвещения, артиллерийский офицер в войну 1812 года.
«Историческая подкладка романа гр. Толстого дала в руки его противников целый арсенал оружия, — сочувственно констатировали «Санкт-Петербургские ведомости» и тут же присоединялись к ним. — Главный недостаток романа гр. Толстого состоит в нарушении границ возможности для поэтического творчества; автор не только силится одолеть и подчинить себе историю, но в самодовольстве кажущейся ему победы вносит в своё произведение чуть не теоретические трактаты».
Лев Николаевич отмахивался от критиков: «Везде, где в моём романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг». В яснополянской библиотеке сохранилось более 40 изданий: исторических трудов, мемуаров и так далее. В том числе «Историческое описание мундиров» и «Историческое описание вооружения и одежды российских войск».
Тем не менее знатоки выявили кучу ошибок в этих деталях. Но когда Толстой, например, глазами Николая Ростова смотрел на сражение под Островно, ему привиделись в клубах порохового дыма оранжевые русские уланы на рыжих лошадях и синие французские драгуны на серых — и он не посчитал нужным уходить с поля боя и лезть в книги за уточнениями, которые могли разрушить образ.
За образы автору «Войны и мира» досталось отдельно. Князя Петра Вяземского особенно задела сцена, когда Александр I с балкона кремлёвского дворца бросает бисквиты собравшейся толпе:
«Это опять карикатура, во всяком случае совершенно неуместная и несогласная с истиной. А и сама карикатура — остроумная и художественная — должна быть правдоподобна».
Но Толстому нужна была картина народного ликования в день визита императора в Москву по случаю окончания войны с Турцией — когда никто не предчувствовал, что до нашествия Наполеона остаётся менее месяца, — и он вообразил её. Точно так же поступился правдой и автор «Тобола», сопровождая князя Гагарина в столицу Сибири.
«Считать, что писатель не знает фактов, если он их искажает, причём целенаправленно, — это очень наивно, — убеждён Алексей Иванов. — Всё зависит от позиции писателя». Коллегу по цеху поддержал Леонид Юзефович, также приглашённый на дискуссию «Как писать о прошлом?»:
«В документальной прозе факты — это кирпичи, они даны в готовом виде. Что касается художественной прозы, то там я строю здание не из готовых кирпичей, а из камней, которые обтёсываю в зависимости от того, что мне нужно».
Но где проходит граница добросовестной обработки? Вероятно, там, где создание образов и изложение писательской версии событий (бывает и некритичное использование источников) оборачивается конъюнктурной выдумкой и передёргиванием. Рубеж этот довольно зыбкий. Работа над исторической прозой зависит от пристрастий автора и подвержена настроениям времени так же, как любое творчество. Каждый писатель сам для себя определяет степень бережности — или педантичности — в обращении с исторической фактурой. Право на замысел — его основное право. А дальше получается, как и с любыми другими правами. Случаются ненарочные или намеренные злоупотребления. Либо простительные промахи и оправданные искажения, но последнее — уже часть замысла.
Отвечая на вопрос, нужно ли писателю погружаться в архивы, Леонид Юзефович заметил: «Вы не найдёте у профессиональных историков документов, которые дают понимание человеческих эмоций. А это то, что нам надо». Писатели-прозаики, будь то реконструкторы времени или постановщики драм в исторических декорациях, дают читателям то, что не найти в монографиях и исследованиях.
Возвращаясь к «Теням тевтонов» — о чём эта книга? О гибели воинствующего рыцарского ордена? О крахе нацистской Германии? Алексей Иванов говорит, что о разрушительности конспирологии — когда сон разума рождает чудовищ. Однако авторский замысел зачастую не исчерпывается одной-двумя идеями, а смыслы иногда сами появляются из-под пера, то бишь клавиатуры.
В «Тенях тевтонов» можно увидеть вплетённый в приключенческую фабулу рассказ о том, насколько просто продать свою душу (дьяволу, богу войны или кому-то ещё — не суть важно) и как трудно её сохранить. Здесь есть любовь и ненависть, смелость и слабость, преданность и коварство, интриги и тайны, и немало адреналина для воображения — в общем, всё, чтобы увлечь читателя, затронуть его разум и чувства.
Человеческая природа за все века, по большому счёту, не изменилась. Люди по-прежнему живут эмоциями. Кстати, знаете, как Вальтер Скотт определял своего «Айвенго»? Что было напечатано под заголовком первого издания книги, на которой выросло не одно поколение медиевистов? Не «historical novel» — «a romance».