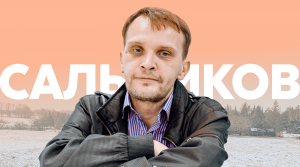Новый роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» начали бурно обсуждать ещё до того, как он разошёлся по рукам и был прочитан и осмыслен. Для пикировки хватило краткого пересказа сюжета: первый год по окончании гражданской войны, последний год её ужасающего последствия — голода в Поволжье; поезд с детьми-беспризорниками идёт из Казани на юг по разорённой стране, ещё объятой страхом и ненавистью.
На клубной презентации романа один из гостей спросил автора: «Есть ли у вас понимание, в чём первопричина зла? И как, образно говоря, разрушить Чёрный Замок?». «Я не знаю, — чуть смущённо ответила Яхина. — Не знаю, почему случилась революция, почему война была такой жестокой. Я писала не об этом».
Поиск в исторической прозе исчерпывающих объяснений исторических событий — довольно устойчивое заблуждение, как и вычисление степени её достоверности. По большому счёту, недопустимы лишь анахронизмы, биографические искажения и недобросовестное цитирование документов и мемуаров. Даже самый выверенный исторический роман — это источник не знаний, а впечатлений. Выяснение причин и оценка последствий — удел исследователей, и то среди них возможны самые разные трактовки, зависящие как от личных пристрастий, так и методологического подхода. Попытки раскрыть исторические процессы и мотивы их участников через художественное слово и драматический сюжет все же были, есть и будут. Но это не отменяет главного: роман — всегда продукт воображения.
Мировую историческую романистику можно условно поделить на две части: реконструкция и режиссура, то есть постановка спектакля — трагедии, авантюры или комедии в исторических декорациях, где раскрываются характеры действующих лиц, с которыми зритель может сопоставить себя и своих современников. Другими словами: «события и люди» либо «люди в потоке / на фоне событий». Это не жёсткое разделение, возможны, так сказать, наложения подходов. Реконструкции тоже нужна художественная правда — реалистичность образов, ситуаций и поступков, создающая эффект погружения. Состоявшийся исторический роман — тот, в котором историческая правда сплавлена с художественной. Причем вторая все-таки первостепенна.
Стандартное определение «Обители» Захара Прилепина, бестселлера последнего семилетия — роман о репрессиях. На самом деле это книга о любви. Лишь дочитав её до конца, осознаешь, что вся цепочка встреч, испытаний и приключений главного героя выстроена судьбой (то есть автором) ради того, чтобы привести его к невероятному открытию себя — готовности добровольно разделить смерть с тем, кто тебе дорог, чтобы он покинул этот мир не в страхе и одиночестве. Есть в «Обители» и другие смысловые слои. Автор не оправдывает и не осуждает то время, но передаёт его реалии по возможности максимально достоверно (он читал мемуары Лихачёва и других соловецких узников). В этом и заключается историчность романа — для разговора на вечные темы Прилепин выбрал конкретный событийный контекст. И уклонился от его оценки, поскольку не ставил такой цели.
«Филэллин» — пожалуй, лучшая новинка исторической прозы — рассказывает более, чем о последних годах царствования Александра I. Роман фактологически выверен, как событийно, так и персонально — от образа императора до «маленького человека» Мосцепанова, чьи уцелевшие письма читал Леонид Юзефович. Тем не менее, поясняет автор, «в отличие от моих документальных книг здесь я дал волю воображению, но свои узоры расшивал по канве подлинных событий». Канва весьма специфична: 1820-е годы, взволновавшая Европу борьба греков за независимость и её отзвуки в России. Узкий контекст — и вневременные смыслы.
Это роман о бремени быть человеком, живущим и разумом, и чувствами. О мечтах и разочарованиях, надеждах и страстях, силах и слабостях, сбывшемся и несбывшемся, о судьбе и жизненном пути, предсказать который нереально — можно лишь следовать по нему так, как получается. И чем выше он пролегает — тем труднее: император обречён быть императором, а у «маленького человека» есть шанс прийти к своему акрополю.
«Филэллин» не породил жарких споров и хлестких обвинений (хотя нашлись те, кто усмотрел завуалированный гомосексуализм в образе камер-секретаря Александра I). Слишком давно случились описанные там события, малоизвестные к тому же широкой публике и не тревожащие, если можно так сказать, историческую память.
Гузель Яхина раз за разом обращается к трагическим и болезненным периодам сравнительно недавнего прошлого. Яростные критики видят причину в убежденном антисоветизме и личных комплексах писательницы, хотя ответ лежит на поверхности: характеры ярче и полнее раскрываются в ситуациях экзистенциального выбора, которых в трагические времена — хоть отбавляй.
В отличие от лаконичного, светлого, прозрачного «Филэллина» «Эшелон на Самарканд» — роман сумрачный, многословный и многосложный. В нём нет персонажей выше командира красного кавалерийского училища или белого атамана, но они не вершители истории, а лишь вовлечённые в её вихрь. Один из смысловых слоёв книги (вероятно, фундаментальный) — неизменно актуальная тема «своей правды». Она разная даже у тех, кто на одной стороне.
Своя — у бывшего красноармейца Деева, поверившего в «кто был ничем — тот станет всем», и теперь горящего желанием сберечь детские жизни взамен погубленных в смуте. Своя — у комиссара Белой, бывшей послушницы, обменявшей спасение небесное на спасение земное и рассуждающей о допустимых потерях на этом пути с рациональностью военного человека.
Своя — у фельдшера Буга, давно уставшего от всяких войн, но, говоря словами Максимилиана Волошина, молящегося «за тех и за других». Своя — у продотрядовцев, отбирающих хлеб во имя революции, и у белоказаков, не покоряющихся бесовской власти. Своей правды не видно лишь у крайних противоположностей — чекистов провинциального городка, зачищающих «бывших», и басмачей из глухого туркестанского местечка. Эти люди перешли за грань, но, когда потерявший инстинкт самосохранения Деев предлагает им выбор «погубить или миловать», то ради второго на миг возвращаются обратно.
И особая правда, конечно же, есть у детей. Тем, кто их спасает, они подчиняются, потому что без этого не выжить. Мир взрослых для них — чужой и враждебный. Они усвоили его пороки, но придумали свои правила добра: «Пойдёшь за меня?» — «Пойду»; и потом двое долго держатся за руки, молча смотря в окно на мелькающий равнодушный мир. Сцена подростковой игры в свадьбу — более чем серьёзна, она о том, как хочется безоговорочно довериться кому-то во время всеобщего раздора и ненависти. И эта сцена — вымысел. В действительности, по словам автора, отношения были приземлённее — по меньшей мере, об этом свидетельствуют документальные материалы.
Вообще, весь эшелон — вымысел: в 1923 году поезда с эвакуированными детьми уже шли обратно. Яхина выбрала этот год и Казань как отправную точку, поскольку выстраивала фабулу от Казанского приёмника, работавшего вплоть до лета 1924 года, документы которого изучала в архиве. Её роман выглядит масштабным коллажем исторических фактов и авторских домыслов — в живописи есть подобный метод, когда рисунок сочетается с фрагментами фотографий, чтобы создать эффект, которого не добиться простым снимком реальности.
Мы возвращаемся к тому, с чего начали: исторический роман — источник не знаний, а впечатлений. Художественная правда в нём самоценна. Художественная правда — это то, что могло быть на самом деле. Рефлексирующий красноармеец невозможен?
«На фронте нет сострадания, а нужна голова, не теряющаяся ни в каких опасных случаях. Только чуть растерялся — значит пропал. Лучше лишиться или убить трёх-четырех, чем губить тысячу. И приходилось так много-много раз… Всё-таки любви не существует среди людей, кроме ненависти. Хотя ненависть мне неизвестна».
Это не цитаты из «Эшелона на Самарканд», а фрагменты писем бойца петроградского Отряда особого назначения, воевавшего с белыми на Западном фронте. Спустя три года такой человек мог бы стать Деевым.